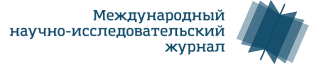FORMULAS OF IDEOLOGICAL LITERATURE: WAYS OF DECONSTRUCTING THE SOVIET PAST IN THE STORY "SUGAR CHILD" BY O. GROMOVA
FORMULAS OF IDEOLOGICAL LITERATURE: WAYS OF DECONSTRUCTING THE SOVIET PAST IN THE STORY "SUGAR CHILD" BY O. GROMOVA
Abstract
The subculture of adolescence is formed in the context of the "big" dominant culture – as a reaction to it, as its reflection, which already implies its reflexive position, forms its own variants of norms, behavioural patterns, and values. Due to the fact that the negativization of the historical past is particularly destructive for teenagers, whose worldview just grows up to national issues, the article is dedicated to the study of the technique of "managing the past" in modern prose about "difficult periods of national history". The specifics of revision of the national past are analysed in the context of methodological searches of modern artistic axiology. The value-ontological approach provides an analytical description of the author's axiosphere, artistically represented in the story "Sugar Child" by O. Gromova.
1. Введение
Введение под названием «Как расти в новой стране с долгой историей?» американские исследователи, авторы книги «Прощание с коммунизмом: детская и подростковая литература в современной России (1990-2017)» начинают следующей фразой: «После распада Советского Союза в 1991 году российским детям и подросткам два десятилетия регулярно повторяли, что они растут в совсем новой стране, в государстве, которое порвало с коммунистическим прошлым и входит в новую эпоху политического и экономического развития» . Одной из очевидных черт, характеризующих современную историческую прозу для детей и подростков, авторы книги называют тенденцию изображать события Великой Отечественной войны «не столько героическими, сколько трагическими» .
Вторая примета новой исторической прозы – «подробное описание сталинских репрессий вместо огульного патриотизма» . «Вместе с художественной прозой, написанной в ХХI веке, эти исторические повествования бросили вызов устоявшемуся мнению многих родителей и педагогов: детей надо охранять от всего пугающего и расстраивающего. Современные писатели рассчитывали на то, что сами дети-читатели (и их родители) способны принимать решения – что читать, а что не читать. Таким образом, дети приобретали больше свободы и, узнавая правдивую информацию о прошлом, могли стать истинными наследниками исторического процесса» . Восстанавливать «истинную российскую идентичность» берутся авторы новой исторической прозы.
Национальный культурный код держится на скрепах сакральной истории, поскольку «сакральная история соединяет историческое с ценностным» . Цель исследования – выявление авторских приемов работы с «историческим» материалом, с помощью которых через тотальную дискредитацию политической системы СССР «переформатируются», переосмысливаются ценности, фундирующие сознание наших соотечественников в период советской истории с позиций идеологических оппонентов.
Материалом исследования послужила повесть «Сахарный ребенок» О.К. Громовой (2014), наиболее известный текст данного автора, переведенный на 10 языков, получивший множество наград и престижных премий в области детской литературы.
2. Методы и принципы исследования
Инструментарий филологического анализа текста позволяет определить «стимулы художественного впечатления», которые активизируют восприятие юного читателя, а метод аксиологического анализа – сделать выводы о способах художественной манифестации ценностных интенций автора.
Теоретической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых, в которых рассматриваются проблематика и поэтика прозы для подростков о «трудных периодах отечественной истории» (Лану и др. , Суверина ); проблемы коллаборационизма (Ермолов , Шанцев , Горелкин , Сорокина ), современные технологии психоисторических «войн памяти» в политологии (Багдасарян ) и филологии (Бернацкая , ).
3. Основные результаты
В главе «Трудные периоды российской истории в произведениях для детей 2000-х годов» учебника «Детская литература» (2020) читаем: «XXI век открыл новые пути для осмысления трагических исторических эпизодов, которые в советские времена замалчивались. Рассказывая подросткам о том, через что пришлось пройти их предкам в ХХ веке, писатели выполняют благородную миссию. Уроки истории важны, чтобы не было повторения тех страшных моментов. Знание делает человека сильнее, мудрее, осмотрительнее, чужой опыт вооружает и не позволяет молодым людям стать игрушкой в руках манипуляторов, слепым инструментом для политиков в достижении их корыстных и нечистых целей. Но возникает вопрос: как рассказать детям о непарадной стороне жизни советского народа? Как вообще касаться запретных, табуированных в советской детской литературе (и не только детской) тем? Осторожно, словно идут по тонкому льду, приступают современные писатели к этой новой для детской литературы теме» . Рассмотрим, как конкретно воплощаются в текст обозначенные тенденции.
Задача формирования новой картины мира и новой идентичности предполагает отказ от прежней мировоззренческой системы через дискредитацию образа СССР, советской власти и советского народа как оккупантов, разрушающих аутентичные национальные культуры.
Деконструкция позитивного образа советской истории в повести «Сахарный ребенок» разворачивается по «хрестоматийным» технологиям управления массовым сознанием: система персонажей выстраивается по принципу повтора ключевых идеологем ревизиониста советского прошлого.
О сложно построенных характерах, имеющих внутреннюю свободу и развивающихся в пределах текста, речь не идет совсем. Повесть представляет собой конкретный авторский идеологический тезис, в свете которого разворачивается изображение действительности: все персонажи изображаются в кругозоре маленькой главной героини.
Организующим началом идеологической повести становится жесткое, черно-белое деление на «своих» и «советских». Линия добра и зла маркирована совершенно отчетливо: зло представлено советской «мертвечиной» (советское зомбированное «оно» не мыслит, разговаривает клише, лозунгами, перманентно цитирует вождя народов, распевает гимны и ненавистные советские песни, запрещает «порабощенным нациям» говорить на родном языке). Его «порождающий» эпицентр – монструозная власть, которая «подавляет» все «живое»: эта теза является семантическим инвариантом для любого уровня текста. Добро в повести – проявление «живой жизни» – художественно репрезентировано в мотивах игры, свободы, творчества и связывает все оппонирующее советскому.
Серой, но агрессивной массе советских зомби противостоит маленькая героиня – «настоящий человек», личностный фундамент которого сформирован генетически. Ее мама, «ссыльная ЧСИР (члена семьи изменника Родны), да еще СОЭ (социально опасный элемент)! Элемент, конечно, был очень опасен: образование высшее, владеет пятью иностранными языками, играет на пианино, прекрасно рисует, до революции училась в Смольном институте, ее мать – полька, бабка – шведка, отец – русский столбовой дворянин, работал инженером на Тульском оружейном заводе и уж наверняка был недобитым белогвардейцем, так как все мужчины в роду, кроме него, моего деда, были артиллерийскими офицерами. А еще и замуж вышла за прибалтийского еврея» . (Литературный критик Ольга Бухина, представляя очередную книгу о «трудных периодах отечественной истории», озвучивает инвариантный сюжет − противопоставление «культурной», «творческой» семьи «совкам»: «книга Марьяны Козыревой «Девочка перед дверью» («Самокат», 2015) состоит из двух повестей. Рассказ ведется от лица героини, сначала маленькой девочки, у которой куда-то делись – мы-то с вами знаем, что их арестовали – родители. Чудесная, веселая семья – иностранные языки, изучение Вольтера, перевод французской классики – все это приходит к концу после ареста родителей, и маленькая Виктория (Витька) скитается по совершенно ей не знакомым родственникам и знакомым родителей. Но происходит чудо – родителей выпускают, и вот уже все трое на станции Верблюд в Ростовской области, где создается «Учебно-опытный зерносовхоз № 2». Там теперь работают родители. Но государство не оставляет их в покое. Доносы и аресты, страх открыть рот – типичные признаки времени, которые ребенку понять практически невозможно» ). Важны и высокий уровень культуры общения в семье, воспитание (ребенок воспитывался именно как свободная личность, умеющая принимать решения и мыслить критически), образование − владение чтением с младенчества, знание иностранных языков, мировой культуры. В этом контексте повесть «Сахарный ребенок» позиционируется апологетами новой исторической прозы как история выживания личности в советской тоталитарной оккупации.
Любой (буквально каждый) эпизод повести изоморфен в аксиологическом аспекте доминантным идеологемам авторов новейшей исторической прозы: советская власть подавляет живое на всех уровнях бытия, отчуждая человека от «физической» (репрессии) и «метафизической» (форматирование сознания через «захват» пропагандой) свободы.
В начале повести молодые, талантливые, веселые родители играют, выбирая имя ребенку (друзья предлагали назвать девочку турецким именем «Мусора»), но тоталитарная власть, после двух месяцев промедления с оформлением документов на новорожденного, присылает «повестку» в ЗАГС. Друг семьи, пока творческие родители продолжали спорить и у дверей ЗАГСа, назвал девочку латинским именем Стелла.
По воле автора главная героиня повести несет «бремя белого человека», глубоко усвоившего культурные европейские ценности: начиная с первого абзаца, где папа придумывает игру, в которой «эльфы и гномы» увязают в отечественных «кисельных реках», и до эпилога, где выросшая героиня понимает, что на «любимый иняз» ей не поступить, и нужно будет, закончив «лесотехнический, сельскохозяйственный», проводить жизнь, в «каком-нибудь медвежьем углу» на задворках страны: «Мне уже понятно, что как дочь врага народа, я не получу золотую медаль. В институт иностранных языков, куда мне так хочется, с моей анкетой не поступить. Таких, как я, «с плохими анкетными данными», берут только в те институты, после которых выпускник должен ехать по распределению в какой-нибудь медвежий угол на тяжелую работу: лесотехнический, сельскохозяйственный. С такими, как я, боятся водить дружбу молодые люди из «приличных» семей, и даже если я встречу когда-нибудь свою любовь, что смогу рассказать ему о себе − как приговор висят надо мной слова: «Никогда, никому… не говорить то, что думаешь, не рассказывать правду о себе»» .
Культурный код, который транслирует автор повести, предполагает принципиальное деление на «элиту» и «плебс». Название повести – маркер глубинного, принципиально неравного отношения к представителям других национальностей («И вдруг меня окружила толпа ребятишек, чумазых, узкоглазых, черноволосых и очень горластых. Они что-то громко кричали, показывали на меня пальцами, хватали за платье. “Кыз, кыз бала, кыз бала”, − начала различать я слова. “Дразнятся”. (откуда я могла знать, что по-киргизски это всего лишь “девочка, маленькая девочка”?)… И вдруг − гортанный возглас. Киргиз. Уважающий себя киргиз не ходит пешком. Он всегда на лошади. Улыбается. “Ак Бала, Кант Бала” (белый ребенок, сахарная девочка) ). Этим чумазым узкоглазым ребятишкам главная героиня и ее мама в «нечеловеческих» условиях жизни киргизской глубинки преподают уроки смелости, нравственного благородства и просвещения. Действие героев приобретает характер «хождения в народ», где дочь «врага народа» и жена «врага народа» демонстрируют хорошим, но забитым, сломленным перманентным страхом представителям «порабощенных наций» уроки достоинства и мужества.
Автор представляет советское государство как бессмысленного, безжалостного и кровожадного Левиафана: «Кто это сделал – грозно спросила директриса. – Вы только что вступили в пионеры! Вы должны быть лучшими, а кто-то позволяет себе обижать товарища! Мы должны его немедленно осудить! Кто это сделал, я спрашиваю?» . Высказывания безликих учительницы, директрисы, вожатой – речь неживого человека: это даже не персонажи, поскольку «персона» предполагает если не личность, то хотя бы «маску», но у этих механических говорящих «болванчиков» с головой, «фаршированной» пропагандистскими клише, одна «маска» на всех.
Основные способы представления советской семиосферы – демонизация и гротеск. Директор школы «начала говорить о том, какую тяжелую и героическую битву ведет наша страна, как во всех концах нашей страны в тылу люди работают под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» и как пионеры Советской страны должны быть сознательными гражданами, и прекрасно учиться, и помогать взрослым, чтобы тоже помогать фронту. … – И вот в это тяжелое время – говорила директриса, – находятся несознательные люди, которые позволяют себе сомневаться в решениях партии! Они ставят под сомнение распоряжения учителей и пионерскую дисциплину! Они позволяют себе сомневаться, что враги народа – действительно враги! Мы должны быть бдительны и не позволять вредным веяниям проникать в наши пионерские отряды! И мы должны исключать из наших рядов таких несознательных пионеров!» . Таким образом, «государственник» становится синонимом «патриота» и дискредитирует это понятие.
В повести О. Громовой пионеры делают только так, как им говорит Сталин и его сателлиты. Кодекс пионера не содержит конкретные этические максимы, а требует неукоснительного служения партии. Вожатая «велела» устроить девочке бойкот. Основная масса «правильных» пионеров сторонилась девочки, поддержали ее еврейка и киргиз («Кто вожатую слушает, а у кого своя голова есть» ), персонажи, сохраняющие национальную культурную память, чтущие национальные традиции: мальчик, отстаивая справедливость, «с трудом подбирал русские слова и перешел на киргизский. – Киргиз не бьет слабого и женщину. Это унижает киргиза». – На первый раз, – строго сказала директор по-русски, – я не буду настаивать на наказании всех вас. Но вы должны помнить, что вы – пионеры. А пионер не должен бить товарища. Он должен ему объяснить, если тот неправильно поступает. Нас учит этому товарищ Сталин!» .
Русский язык в повести – язык советских оккупантов, народная, истинная мудрость высказывается только на «родном» языке: «Мама говорила, что стыдно не знать народа, вместе с которым ты живешь. И если ты не хочешь учить их язык – значит, ты – задаешься» . «Вместе мы учились топить печку, варить мамалыгу, говорить по-киргизски и по-украински». Маленькая героиня, запоминая наизусть киргизский народный эпос, чтобы петь старейшинам за вознаграждение и помогать больной маме, демонстрирует советскому бескультурному обывателю азы истинного уважения к представителям разных национальностей и их ценностям: «Военный спросил меня, что это я читаю на непонятном ему языке. Я объяснила, что читаю «Манас», киргизский народный эпос, про героя, который сражался с врагами своей родины и совершал всякие подвиги».
Громова декларирует: истинное уважение к традициям «малых» национальностей, настоящая дружба народов рождается исключительно как противостояние советскому лживому официозу.
В этом контексте отметим, что историки, изучающие проблемы коллаборационизма , , , пропагандистскую деятельность делят на политическую и экономическую. Политическая включает в себя распространение идей национализма и сепаратизма среди народов СССР, представление советской власти как оккупационной по отношению к разным национальностям . Немецкая «оккупационная пресса была переполнена примерами жестокого отношения и уничтожения тех или иных народов, раскулаченных во время коллективизации» Задача – создать антисоветское движение. В ноябре 1944 г. был создан «Комитет освобождения народов России» .
Автор повести выстраивает ценностные приоритеты повести точно в соответствии с «тактикой идеологического разложения советского населения с учетом его национальных особенностей» , активно применявшейся оккупационной германской прессой. Украинка, еврейка, немка, старорусская семья – эти персонажи обладают человеческим достоинством, только они бережно, в страшных условиях, хранят национальную культуру, оказывают внутреннее сопротивление советским оккупантам. Но современная идеологическая концепция «управления прошлым» имеет определенные нюансы: белорусское партизанское движение во времена Великой Отечественной войны обладает легендарным статусом и представить его как результат зомбирования советской пропагандой сложно. Как-то так получилось, что в книге Громовой, где среди переселенцев есть и белорусская семья, представитель именно этой нации оказывается малодушным предателем собственного ребенка.
Один из способов дискредитации советского прошлого – «гипертрофирование негативного советского и идеализация “другой”, дореволюционной России» . Пытаясь воссоздать национальный колорит, автор переключает стилистические режимы, словно искусственный интеллект, не ощущая неуместной пародийности подобной стилизации в контексте заявленной серьезной темы: «Цыц, парни! – приструнил сыновей хозяин. – Вот видишь, мать, скоро опять за столом сам-семь будет. Пока дочка названая поправляется, ты за внучкой доглядывай – востра больно. Марья, подавай на стол. Маня вытащила из печи ухватом большой чугун. Открыла крышку. Отошла чуть в сторону. Хозяйка взяла большой деревянный половник и стала накладывать в глиняные миски пшенную кашу, а сверху класть кусок сливочного масла. Первую, самую полную, Маня с поклоном поставила перед отцом: “Кушайте, батюшка”, потом перед чернявым: “Кушайте, братец Петро”, потом второму: “Кушайте, братец Павло”» .
В повести работает технология семантической инверсии – все качества, которые демонстрировал герой советской детской литературы, оказываются возможны только в подполье. То есть описанное в советской литературе − именно «литература», «выдуманное», всего лишь «миф», а вот как было на самом деле. Через семантическую инверсию простраивается культурная изоляция советской власти и тех, кто исповедовал ее ценности.
Символика власти – постулируемые этические максимы, гимн, ценности дискредитируется даже маленьким ребенком и не воспринимается в категориях сакральности. В эпилоге героиня вспоминает «кусочки» киргизской жизни: «– Вот мы в пятом классе. Зима 1943-1944 годов была на редкость холодной. Прямо лютая была зима. После зимних каникул – по самым холодам – нам велели приходить в школу за полчаса до начала уроков. В январе в Советском союзе ввели новый государственный гимн. Все мы, ученики и учителя, каждое утро выстраивались в школьном коридоре, поскольку никакого актового зала в нашей школе не было, и под баян, на котором играла учительница пения, пели гимн. Он был длинный и почему-то плохо запоминался. Я путала слова припевов: «надежный оплот» в каждом припеве был разный – то дружбы народов, то счастья народов, то славы народов. – я не особо понимала, почему это надо петь именно в таком порядке» .
Разумеется, победа в Великой Отечественной войне не является событием в прозе о «сложных периодах отечественной истории», в том числе в повести «Сахарный ребенок»: «Ждали, когда закончится война. Нам казалось, что, как только объявят победу, жизнь сразу станет хорошая, вернутся с фронта мужчины, появятся продукты и вообще жить будет замечательно» . Но оказалось совсем не так: «давно закончилась война. А мы так и не знаем, что стало с нашим папой», «Победа мало что изменила в жизни киргизского совхоза» .
Термин «поэтика» сложно применить к данной литературной продукции, поскольку текст О. Громовой полностью предсказуем, представляет собой кластер готовых повествовательных блоков и апробированных стилевых клише. Повесть строится по принципу нанизывания однотипных эпизодов, изображающих противостояние живой жизни и советской мертвечины в разных декорациях как бы документального сюжета. Стилистические приемы, «работающие» на создание простараиваемого образа, весьма однотипны, скрупулезно проанализированы специалистами в трех томах коллективной монографии «Лингвистика информационно-психологической войны». Это – «антитеза, жанровая стилизация, гротеск, абсолютизация, лингвоцинизмы, деперсонификация, десемиотизация, ангажированный отбор эпитетов для характеристики противочленов сюжетообразующей оппозиции, приемы пародирования, шаржирования, двусмысленности, сочленение реального и фиктивного» . Живой слог, оригинальная структура, яркая образность – ничто не должно «отвлекать» читателя от перманентного содрогания, вызванного осознанием «чудовищных» реалий советского прошлого.
Контекстуальная «ловушка» вскрывается просто: и повесть, и комментарии, и послесловие выстраивают жесткую бинарную оппозицию: читатель может выбирать либо сторону семьи, угнетенных национальностей, проявляющих подлинные человеческие качества, с которыми Бог, Пушкин, национальный эпос, дружеская поддержка, милосердие, сочувствие и т. д., либо «советскую» сторону, вылепленную в гротескной обезличенной стилистике в коллективный образ «Оно». «Оно» − монструозное и хамское, где суть советских обывателей сводится к зависти, слежке и доносам, а власть предержащих – к проявлениям крайней жестокости, предельной бесчеловечности.
Сложные вопросы отечественной истории решались Пушкиным в «Медном всаднике» и Гоголем в «Тарасе Бульбе», шедеврах, репрезентирующих субстанциональный конфликт, который не имеет однозначного правильного решения. Гений поднимается в поиске осознания исторических противоречий, ищет необходимую высоту, с которой можно увидеть правду и маленького человека, и государственного деятеля. Удерживая в смысловом поле текста две правды, авторы создают вертикальное смысловое напряжение, позволяющее читателю подняться и понять нечто большее, чем то, что очевидно из перспективы видения повседневного существования. Но автору повести «Сахарный ребенок» Пушкин как автор «Клеветникам России» и «Медного всадника», Гоголь как автор «Тараса Бульбы» не нужны: в книге аксиологической опорой автора становятся «свободные душой», не сломленные тираном Грозным Курбский и Шибанов.
Автор максимально ограничивает восприятие истории. «Сужение» точки зрения дает возможность педалировать тему страдания. Иван Карамазов, провоцируя брата Алешу на серьезный разговор о теургической «состоятельности» Всевышнего, использует ровно тот же прием – «слезинка ребенка», только герой «проблематизирует» фигуру не государственного вождя, а Бога, и разворачивает свое мятежное бытие в ценностной перспективе романного целого, смыслы которого простраивает православный христианин Достоевский. Полифоническая свобода героя вовсе не оборачивается аксиологическим релятивизмом автора. Описание же страданий детей в «новой исторической прозе» создает своеобразную эмоциональную «страховку»: любые попытки говорить о «сделанности» текстов вызывают возмущение по поводу того, как вообще можно рассуждать о «документе», «приеме» или еще чем-то, когда тут ребенку, потянувшемуся за тюльпаном сквозь колючую проволоку, лицо прикладом НКВДешник раскроил.
Тема, заявленная автором повести «Сахарный ребенок», требует комментария специалиста для восстановления исторического контекста, дающего представление о причинах принятия тех или иных решений правительством СССР. Повторим, вопрос не в табуированности темы политических репрессий − в 90-е годы были сняты все возможное запреты; обозначенная проблематика исследуется в массе публикаций разного уровня, созданных на рубеже ХХ и ХХI веков.
Если это «литература факта» − книга должна выходить с комментариями историка, в которых, вероятно, должны быть освещены и проблемы коллаборационизма, и суть закона о «Порабощенных нациях». Филологи могли бы многое рассказать о советских киргизских писателях и фольклористах. Без комментариев специалиста у современного школьника имя великого советского киргизского писателя Чингиза Айтматова не возникнет в памяти. Имена уникальных советских художников слова − абхазца Фазиля Искандера, узбека Тимура Пулатова, дагестанца Расула Гамзатова – исчезли из школьной программы именно в постсоветское время. Между тем формула советского национального вопроса просто и точно «открыта» Расулом Гамзатовым, который говорил, что «в Дагестане я – аварец, в России – дагестанец, а за рубежом я – русский».
4. Заключение
Техника работы автора «Сахарного ребенка» мало чем отличается от «замалевывания лиц» неугодных героев гражданской войны в учебниках истории: матрос Железняк, командир Щорс, пионеры – дискредитированы, обезличены, преданы забвению. Современному подростку предлагают ревизию не просто советской истории, но истории России в целом, что в долгой перспективе обернется сменой эпистем. Опереться на отечественное прошлое юному читателю невозможно: Российская империя – «жандарм Европы», советская империя – «поработитель наций».
Складывается некий жанрово-тематический канон − формально-содержательная модель, построенная по определенной схеме, обладающая общностью тематики, определенным набором идеологических доминант. Преобладают клишированные элементы художественной формы, включающие готовый контекст базовых идеологем, воспроизводящих психологические и эмоциональные стереотипы.
«Продолжая исследование литературы для молодых взрослых, или “литературы между”, нарушающей “границы памяти”, предполагается показать, как (не)детские книги работают с социальной памятью сообщества о “неудобном” прошлом. И о том, почему работа с этой памятью может существовать только в пространстве межпоколенческого диалога» . Действительно, целевая аудитория «новой исторической прозы» − все-таки молодые родители, новые взрослые, «кидалты», поскольку для подростков это – не литература. Перед нами − «формула», «стандарт», тиражируемая «модель» псевдолитературы «факта» с неизменной заданностью клишированных компонентов сюжета, спекулирующая на теме страдания детей. Образец идеологической манипуляции на основе подмены смысловых платформ.
Молодой читатель воспринимает информацию вне больших смыслов. В проекте новой исторической прозы для подростков разворачивается репрессинг созидательных смыслов, связанных с советской историей, художественные тексты «работают» на разрушение матрицы исторического сознания и могут быть осмыслены как технологические инструменты «войн памяти».