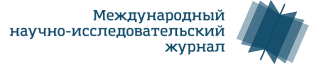"SEIMCHANSKY DIARY" BY A. E. KULAKOVSKY: THE PROBLEM OF SELF-IDENTIFICATION OF THE AUTHOR
«СЕИМЧАНСКИЙ ДНЕВНИК» А. Е. КУЛАКОВСКОГО: ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОРА
Научная статья
ORCID: 0000-0002-4690-0907,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии наук, Якутск, Россия
* Корреспондирующий автор (Romanova_lida[at]mail.ru)
АннотацияВ статье проведен текстуальный анализ Сеимчанского дневника основоположника якутской литературы, первого якутского поэта и ученого А.Е. Кулаковского с точки зрения проблемы авторской идентификации в дневниковом тексте. Дневник рассматривается как текстовое пространство самоидентификации. Процесс самоидентификации автора дневника прослежен в аспекте целеполагания ведения дневника; самооценки и самопрезентации автора в контексте преодоления кризиса идентичности; самопозиционирования, самополагания автора в этнической и социокультурной среде; самоорганизации и саморазвития путем креативной (научной и литературной) деятельности.
Ключевые слова: эго-текст, дневник, самоидентификация.
"SEIMCHANSKY DIARY" BY A. E. KULAKOVSKY: THE PROBLEM OF SELF-IDENTIFICATION OF THE AUTHOR
Research article
Romanova L.N.*
ORCID: 0000-0002-4690-0907,
Institute of Humanitarian Research and Problems of Indigenous Peoples of the North of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Russia
* Corresponding author (Romanova_lida[at]mail.ru)
AbstractThe article presents a textual analysis of the "Seimchan Diary" of the founder of Yakut literature, the first Yakut poet and scientist A. E. Kulakovsky from the perspective of the problem of author's identification in the text of the diary. The diary is analyzed as a textual environment of self-identification. The process of self-identification of the author of the diary is traced in the aspect of goal setting journaling; self-evaluation and self-presentation of the author in the context of overcoming the crisis of identity; self-positioning, self-positing of the author in an ethnic and socio-cultural environment; self-organization and self-development through creative (scientific and literary) activities.
Keywords: ego-text, diary, self-identification.
ВведениеВ последние годы в современной гуманитарной науке заметна тенденция персонализации предмета истории, и появление таких исследовательских направлений, как историческая антропология, интеллектуальная история, новая биографика и т.д. В этом аспекте особый интерес представляет «новая биографика», предполагающая реконструкцию личной жизни, уникальной судьбы, формирования и развития внутреннего мира отдельных исторических личностей. Основным исследовательским объектом в ней являются персональные тексты, в том числе источники личного происхождения – так называемые «эго-документы». По мнению основателя интеллектуальной истории в России Л.П. Репиной: «реконструкция личной жизни и судеб отдельных исторических индивидов, изучение формирования и развития их внутреннего мира, всех сохранившихся “следов” их деятельности рассматриваются не только как главная цель исследования, но и как средство познания того исторического социума, в котором они жили и творили, радовались и страдали, мыслили и действовали» [12, С.345].
Следует отметить, что «новая биографика», являясь областью современного исторического знания, тем не менее, в своих методологических принципах во многом опирается на биографический метод, наиболее разработанный в литературоведении. И закономерно, что одно из значительных мест в персональной истории занимают исследования писательских дневников. Основной корпус исследований приходится на дневники, имеющие художественную ценность и приравненные к литературным жанровым формам («Дневник писателя» Ф.М. Достоевского, «Окаянные дни» И.А. Бунина, дневник М.М. Пришвина и др.). Менее исследованными остаются личные дневники писателей, не предназначенные изначально для публикации, необработанные в литературной форме: хроникальные, повседневные, интимные, написанные в определенный период жизни и т.д. Лишь в последние годы к писательским дневникам нехудожественного ряда возрос интерес исследователей в контексте биографического нарратива [3], [17], в плане выявления коммуникативных стратегий [23] и жанровых признаков [1], разработки подходов и параметров в изучении «дневниковости» и «дискурса персональности» [10], [7] и др. Изучение этих работ доказывает, что в исследовании писательского дневника равноценны методы и приемы как литературоведения и истории, так и лингвистики, этнографии, социо- и этнопсихологии и т.д.
В якутской гуманитарной науке дневник, да и в целом эго-документы, одна из самых малоизученных областей. Между тем, источниковедческая база в этом направлении огромная. В якутских архивных фондах хранится множество личных эго-документов, представляющих интерес для воссоздания как большой истории, так и истории повседневности разных эпох.
Возрастанию научного и читательского интереса к личным документам известных личностей, особенно писателей, способствует издание ранее малоизвестных и недоступных для широкого круга читателей дневников из архивных и личных фондов («Сеимчанский дневник А.Е. Кулаковского. 1923-1924 гг.» (2018), «Дневник Семена Данилова. 1951-1978 гг.» (2018).
В якутской историографии и литературоведении изначально присутствовал особый интерес ко всем персональным текстам основоположника якутской литературы, ученого, философа А.Е. Кулаковского, которые составляют его целостный портрет как создателя национальной литературной традиции и как личности, изменившей самосознание народа cаха.
Среди множества текстов личного происхождения, хранящихся национальном архиве Республики Саха (Якутия) и Рукописном фонде ЯНЦ СО РАН, по временной длительности написания и значимости в судьбе поэта, выделяется дневник Кулаковского периода его пребывания в местности Таскан Сеимчанского наслега Оймяконского округа. Здесь поэт и ученый скрывался во время Гражданской войны с октября 1923 г. по июль 1924 г. Дневник же велся с 22 ноября 1923 г. по 6 марта 1924 г.
Документ хранится в Национальном архиве Республики Саха (Якутия) в личном фонде профессора Г.П. Башарина [НА РС(Я), Ф.1480. Оп.1. Д.18]. Представляет собой ученическую тетрадь из 18 листов под названием «Дневник. 1923». Дневник велся на русском языке в хронологическом порядке. Записи в большинстве лаконичны, фактографичны, занимают от 5-10 строк до одной-двух страниц.
Несмотря на лаконичность записей, изучение дневника в контексте биографического нарратива и социально-исторических условий таит в себе много интересного в научно-познавательном плане, и может служить не только вспомогательным материалом для создания биографии писателя, но и является самоценным текстом культуры, документом эпохи. Иными словами, Сеимчанский дневник – если пользоваться определением Ю.М. Лотмана, текст, «нуждающийся дешифровке». Причем расшифровка дневника требует междисциплинарного подхода, предполагающего использование методологии различных социогуманитарных наук (литературоведения, языкознания, истории, этнографии, социо- и этнопсихологии и т.д.).
В междисциплинарном изучении Сеимчанского дневника Кулаковского особый интерес представляет проблема самоидентификации автора, которая заключает в себе общепсихологические (социокультурные, национально-территориальные, религиозные и др.) и сугубо профессиональные (научная, писательская) аспекты авторской стратегии.
В предлагаемой статье рассматриваются следующие ключевые моменты процесса самоидентификации Кулаковского, выраженные в дневниковом тексте: авторские интенции (целеполагание) в создании дневника, суть которых сводится к самоопределению и самосохранению (в интеллектуальном плане) в кризисной ситуации (в географически и интеллектуально ограниченном пространстве); самооценка и самопрезентация автора в связи с его самополаганием, самопозиционированием в реальной действительности, социальной и этнической среде; самореализация и саморазвитие автора путем активной креативной деятельности.
Сеимчанский дневник: основные характеристики и авторские интенции в создании дневникого текста
Сеимчанский дневник Кулаковского как источниковедческий материал вошел в научный оборот лишь в ХХΙ в., и то, как вспомогательный материал для биографии поэта. Предыдущие исследователи его биографии, как историки, так и литературоведы, обходили Сеимчанский период его жизни, или вкратце, не заостряя внимание, упоминали его в общей биографической хронике из-за неоднозначности и противоречивости исторической (идеологизированной) оценки позиции Кулаковского во время Гражданской войны. Хотя все исследователи единодушны в оценке особой научной и литературной значимости работ, проделанных поэтом и ученым в этот период. Более углубленный анализ в историко-культурном контексте представлен в трудах Н.Н. Тобурокова [15] и Л. Р. Кулаковской [5].
Что собой представляет Сеимчанский дневник? В целом его трудно отнести к текстам чисто художественного порядка, или к так называемым пред-текстам, по теории М.Ю. Михеева [10], к которому автор возвращался для обработки, переписывания. Это по форме и содержанию ежедневный дневник, поденные записи, отражающие определенный временной промежуток в биографии Кулаковского. Его можно рассматривать как форму дневника, написанного в кризисный период жизни поэта.
Автор дневника в силу обстоятельств чаще всего в дневнике записывает продовольственные расходы, сделки с местными жителями, повседневные занятия, направленные на выживание в голодном и холодном северном крае. Смещение с плана сюжета (события) на план переживаний в структуре текста, сочетание бытового и бытийного дискурсов, в принципе, могли бы позволить отнести Сеимчанский дневник к художественно-публицистическому жанру, но последнего (плана переживаний) не так много представлено в тексте, хотя они достаточно ярко репрезентируют душевное состояние Кулаковского в этот период. Поэтому, скорее всего, мы имеем право говорить о Сеимчанском дневнике как об эклектичном явлении, сочетающем в себе жанровые признаки ежедневника, художественно-публицистического текста, дневника этнографических и лингвистических наблюдений (т.к. здесь запечатлено много сведений об обычаях, нравах, быте северных якутов), и, наконец, дневника самоидентификации поэта и ученого в изменяющемся мире.
Конструируя нарративную историю сеимчанской жизни в дневнике и указывая побудительные причины ведения дневника, Кулаковский в самом начале записей, по сути, ставит перед собой задачи самоидентификации:
1) самопрезентация и адекватное позиционирование себя в той социальной среде, в которой по воле судьбы он оказался: «Во 1-х: живя в уединенной тайге среди полудиких детей природы, не знаю о дне недели, а, главное, числе месяца. Впрочем, день недели лично меня ничуть не интересует, но окружающие надоедают вопросами и, не получая точные ответы, профанируют меня, а это кому будет приятно?)» (запись от 22 ноября 1923 г.). Эта позиция напрямую связана с положением о том, что самопрезентация «отождествляется с умением овладевать временем и пространством» и является «главной способностью человека» [8, С.38]. Кроме того, автор изначально позиционирует себя как личность, стоящую выше окружающих в интеллектуальном плане;
2) самоорганизация, стимуляция креативной деятельности как путь самосохранения и адаптации в «предложенных» жизненных обстоятельствах: «Во 2-х: надеюсь ежедневно записывать о том, что я сделал за день, видя малопродуктивность проведенного дня, я буду чувствовать угрызения совести, что будет служить для меня искусственным подвинчиванием моих сил, спящих в тисках лености»;
3) авторефлексия во временном разрыве, возможность ретроспективы: «В 3-х: любопытно взглянуть чрез несколько лет на то, как я думал, о чем мечтал, чем был занят несколько лет тому назад, т.е. теперь»;
4) самооценка через отношение к Себе Других (семьи, потомков), что связано с коммуникативными целями дискурса: «В 4-х: может быть, жена и дети поинтересуются тем, как я жил в Сеимчане»;
5) и, последнее, внутренний диалог, желание «отводить душу» в дневнике за неимением достойного, равного по интеллекту собеседника: «В 5-х: окружающие не могут удовлетворить меня своими беседами; их мечты не интересуют вне сферы их мелкой жизни. Потому хоть на бумаге буду отводить душу» (запись от 22 ноября 1923 г.). Так в дневнике создается образ идеального «всепонимающего» адресата – самого автора.
Таким образом, если обратиться к типологии М.Ю. Михеева [10, С. 17-31], Сеимчанский дневник Кулаковского выполняет функции культурной памяти (фиксация событий как исторически значимых), аутогнитивной памяти (осмысления своих поступков), «завещания» (обращенность к потомкам), квази-диалога, как релаксационно-терапевтического способа снятия эмоциального напряжения от отсутствия интеллектуальной среды для общения. Эта стратегия ведения дневника, по своей сути, была нацелена на самоидентификацию Кулаковского, глубоко сознававшего масштаб своей личности, своей миссии перед народом как первопоэта, создателя национальной литературы, первого из числа якутов ученого-фольклориста и этнографа, просветителя.
Важным является вопрос коммуникативной направленности дневника Кулаковского. Несмотря на то, что это дневник приватного характера и велся, прежде всего, для Себя, уже в самом целеполагании ведения дневника проступает обращенность к внешнему адресату (самооценка через отношение к Себе Других (семьи, потомков); фиксирование этнографических и этнопсихологических наблюдений, имплицитно предназначенных для предполагаемого читателя и т.д.). В таком ракурсе дневник приобретает статус публичного перформанса, что также подтверждается наличием риторических вопросов и восклицаний, более развернутых описаний внутренних переживаний и мыслей литературного характера, пояснений бытовых, этнографических деталей, которые могут быть непонятны и неизвестны постороннему, условному читателю и т.д.
Самооценка автора в дневниковых записях и его самополагание в социальной среде
Дневниковый жанр требует от его автора предельной откровенности, исповедальности, в том числе и в характеристике самого себя. Интенциональный посыл дневника определяется, прежде всего, самооценкой автора, его самохарактеризующими высказываниями.
Многим известным авторам интимных дневников присуще самобичевание, самокритика, анализ черт своего характера, препятствующих, по их мнению, самосовершенствованию как личности, как профессионала (например, дневники Л.Н. Толстого). Кулаковский в этом плане не исключение. Он в начале своего дневника характеризует себя как человека ленивого, безалаберного, обладающего плохой памятью, что может помешать ему сохранить в системном виде для последующих поколений знания о культуре своего народа: «Решился хоть попробовать вести дневник. Весь свой век мечтал об этом, но, не надеясь на свой безалаберный и ленивый характер, не решался на это. А теперь ужасно раскаиваюсь, но, как всегда бывает, раскаяние пришло поздно. Раскаиваюсь неспроста: жизнь провел весьма содержательную для жителя Як[утской] об[ласти], полную всяких приключений и много странствовал, собирая на память… сведения по якутскому фольклору. А память у меня ни на что не годится. Если бы я вел с молодости (а мне теперь 46 л[ет] 10 м[еся]ц[е]в) дневник, то материалов по фольклору и о древности якутов было бы по крайней мере в три раза более имеемого» (запись от 22 ноября 1923 г.).
Или, говоря о побудительных причинах ведения дневника, Кулаковский надеется, что он «будет служить <...> подвинчиванием моих сил, спящих в тисках лености». Позиционирование себя в таком ракурсе свидетельствуют о кризисе идентичности автора в момент заведения дневника. Оторванный от большого мира, переживающий не только за свою собственную судьбу, но и за судьбу своего народа, Кулаковский тревожится о том бесценном культурном багаже по «древности якутов», который может быть утрачен в это смутное время. Отсюда кризис идентичности, самобичевание, обвинение себя в лености.
На самом деле, весь тот материал, который был собран и научно обоснован им за короткий век (всего 48 лет), никак не подтверждает мысль о его лености или безалаберности. Наоборот, даже тот объем работы, который проделан за несколько месяцев пребывания в Сеимчане, говорит об уникальной трудоспособности поэта и ученого. Не зря ученый и поэт в дневнике сетует на нехватку времени суток: «Вообще мне следовало родиться на Марсе, где сутки равняются 36 земным часам» (запись от 4-го декабря 1923 г.).
Если первая запись в дневнике, где подробно излагаются авторские интенции, более обширна, то в дальнейшем характер записей становится более лаконичным и фактографичным. Автор дневника редко самохарактеризуется и оценивает себя, речевой пласт в основном состоит из безличных глаголов действия, выражающих как повседневную (хозяйственную), так и креативную деятельность: «Встал в 7 ч. утра», «Приступил к деланию стола», «Приступил к легенде “Дыгын”», «Переписал по алфавиту словарь и сосчитал слова, оказалось 1972 слова!» и т.д. Частое употребление действенных глаголов (характерная черта нарративного изложения), особенно относящихся к творческой деятельности, свидетельствуют о постепенном преодолении автором дневника кризиса идентичности.
В отношении самопрезентации автора в дневнике, следует обратить внимание еще и на тот, факт, что большинство документов личного происхождения (дневники, письма, путевые заметки) Кулаковского были написаны на русском языке. Объяснений этому автор сам не дает. Можно, наверно, объяснить этот момент веяниями эпохи – владение русским языком было признаком не только образованности, но и элитарности в среде якутской интеллигенции начала ХХ в. Этот факт очень важен в самоидентификации Кулаковского, для которого владение языками и науками было самым важным в характеристике современного высокоинтеллектуального человека, представителя своего народа, что отражено и в других его публицистических заметках, письмах и произведениях.
Если в эпистолярии русская речь вполне объяснима, т.к. частная переписка на русском языке среди интеллигенции в этот период была общепринятым этикетом, бытовым дискурсом, то для дневника, обращенного по своей природе Себе (для Себя), иноязычное написание говорит о его коммуникативной направленности вовне (запись «для истории», ориентация на предполагаемого читателя), что подтверждает имплицитный публичный дискурс дневника.
Предпочтение записей эго-текстов (дневников, писем, публицистических статей) на русском языке якутоязычного поэта можно расценивать как особый тип лингвокреативного [4, С. 312] мышления и мироощущения, способного синтезировать в себе различные архетипы, образы, ассоциации различных культур.
В процессе самоидентификации автор переживает несовместимость своего внутреннего мира с внешним. Глубокое противоречие духовных потребностей и реальной действительности отражено в его записи о «двойной жизни» – во сне и наяву, в котором автор предпочитает жизнь во сне: «... жить во сне для меня лучше, так как она интереснее и содержательнее: все в ней содержательно, занимательно и эксцентрично, тогда как жизнь наяву так сера, буднична, прозаична, без чудес… <...> Преимущество явной жизни заключается только в логической связи прошлого с настоящим. Но на что мне эта связь, когда она больше причиняет страдания, чем радость? Наоборот, во сне человек совершенно свободен от прошлого и будущего и живет только настоящим, которое интересно и чудесно!» (20 января 1924 г.). По напряженности мысли, эмоции, стилистике эта запись звучит как предисловие к его программной поэме «Сон шамана», где общий план повествования дан в виде сновидения шамана, превращающегося в могущественного орла. По определению К. Юнга, есть сны, которые говорят о том, что реальные возможности человека не соответствуют его притязаниям, завышенному уровню самооценки [17, С. 41]. Для Кулаковского реальная действительность не соответствовала его духовным потребностям, «побег в сон», по Юнгу, – это попытка поэта гармонизировать ситуацию «изнутри».
В связи с этим возникает вопрос о самоидентификации автора дневника с точки зрения его самополагания в том мире, котором он оказался по воле судьбы, с точки зрения этнической (или этно-территориальной) и социокультурной идентичности.
По свидетельству современника Кулаковского писателя и критика Н.М. Заболоцкого, про свое зимнее пребывание на Сеимчане поэт высказался так: «Врагу не пожелаю перезимовать в таком месте» [5, С. 246]. Знаменательно то, что поэт здесь говорит о «таком месте», как о чужом/ не своем пространстве, которое в ментальном плане было «необходимо освоить, «обжить», либо «присвоить» [2, С. 5].
Имеем ли мы право говорить о национальной идентичности и адаптации (необходимости освоить, обжить чужое пространство) в случае с пребыванием Кулаковского в Оймяконе? Ведь он находился у себя на родине – в Якутии, среди своего народа саха? И все же записи свидетельствуют о том, что самоидентификация автора дневника происходит за счет со- и противопоставления себя местному населению – северным саха, с точки зрения этно-территориальных различий, и культурных диссонансов. Автор дневника, как представитель более развитой в социально-экономическом и культурном плане центральной части Якутии, подмечает различие в менталитете, образе жизни северных саха, на которые наложили отпечаток объективные условия жизни на Севере – климат, дальние расстояния, суровая природа, смешение традиций с традициями северных коренных народностей и т.д.
Уже в самом начале дневника, определяя основные задачи записей, он сознательно дистанцируется от того социального круга, в котором он пребывает, называя северных жителей «полудикими детьми природы», чьи интересы не выходят «вне сферы их мелкой жизни». В коммуникативной форме дневника Я и Они (Другие) противопоставлены или обособлены. Это касается и быта, и нравов, и даже различий в традиционных религиозных представлениях. Сам характер высказываний говорит о четком разделении, противопоставлении этно-территориальных и социокультурных представлений: «На Сеимчане и Таскане существует обычай...» или: «Общий недостаток всех северян...»; «...их мечты не интересует вне сферы их мелкой жизни»; «я ожидал, что поделятся по якутскому обычаю, но не тут-то было»; «Надо бы тесать доски и строгать их, но подумают: “изувер – работает в праздники”, (как будто сами что-нибудь понимают в вопросах религии)». Здесь налицо не только и не столько проявление этно-территориальной идентичности автора, но и духовная, интеллектуальная самоидентификация автора путем противопоставления себя чужой культуре.
Интересны наблюдения поэта за психо-эмоциональными проявлениями характеров северян. Например, в записи от 3 января 1924 г., упоминая о встрече родных сестер-северянок после долгой разлуки, Кулаковский пишет: «Сестра, не видевшая ее 8 лет, не проявила никаких признаков радости. Вот бесчувственность!»; а 10 числа того же месяца, коротко описывая смерть и похороны умершего от болезни мальчика, отмечает: «Родители плачут – вот малодушие!». В этих двух суждениях о проявлении чувств северян на самом деле отражены различающиеся представления о жизни и смерти на плоскости «своей» и «чужой» культур. Для Кулаковского, находящегося вдали от своих родных, естественна радость при встрече живых близких родственников после многолетней разлуки, тем более в это разрушительное и разобщающее время. Но при этом прилюдное оплакивание умершего вызывает негодование исконного якута, потому как в его традиционном окружении это издавна осуждалось. Считалось, что слезы по умершему отягощают его путь в инобытие, не дают успокоение его душе-кут.
Этнический характер повседневной чужой жизни, описанный в сравнении со своим миром, позиционирует автора дневника как представителя другой культуры, другого видения мира.
Но при этом в записях звучит глубокое сочувствие людям, живущим в тяжелых условиях севера (есть много моментов, которые написаны с живым соучастием к голодающим, болеющим и умирающим соплеменникам). Кулаковский принимает активное участие в их жизни с целью облегчения быта и труда северных жителей: выполнял обязанности писаря, плотника, миротворца («Еду мирить Луку с Кононом»), помогал продуктами, вещами, вел просветительскую деятельность («Вечером читал сказку «Бэрт Мэлис» по просьбе В. Попова). Следовательно, здесь можно говорить о созидательной адаптации как формы самоидентификации автора дневника, ибо как просветитель-гуманист, творец Алексей Кулаковский не столько приспосабливался к существующей реальности, сколько в силу своих духовных порывов, интеллектуального потенциала изменял эту реальность путем внедрения в нее собственных ценностных ориентаций.
Творческая деятельность как способ самоидентификации автора Сеимчанского дневника
Основным способом самоидентификации Кулаковского становится креативная деятельность. Для поэта и ученого в этот трудный период становится важным сохранить способность к креативной деятельности. В иерархии человеческих потребностей, по А. Маслоу, высший уровень занимают метапотребности, заключающиеся в совершенстве, гармонии, правде. В основе их мотивации лежат духовные потребности и ценности роста. Именно такая мотивация, по мнению психолога, присуща в большей степени самоактуализирующимся личностям, главным качеством которых является креативность («творческость»), творческое отношение к жизни и своей личности [14]. К таким самоактуализирующимся личностям, несомненно, относился Алексей Кулаковский, максимально использовавший и развивший свои творческие потенции во время пребывания в Сеимчане.
В начале своего дневника Кулаковский характеризует себя как человека, прожившего «содержательную» жизнь, «полную всяких приключений и много странствовал, собирая на память (...) сведения по якутскому фольклору» (запись от 22 ноября 1923 г.). Следовательно, в первую очередь он идентифицирует себя как ученого-фольклориста, собирателя фольклора и этнографических материалов.
Сеимчанский период был один из самых плодотворных в научном плане этап жизни Кулаковского. За время пребывания (больше 9 месяцев) в Сеимчане им закончена и отправлена в Русское географическое общество рукопись «Словаря русских слов, перенятых и усвоенных якутами», состоящий из 2358 слов; записано множество преданий и легенд центрального и северного ареала и т.д.
Самое большое время и моральные усилия были потрачены на создание «Словаря ...», который был начат 20 ноября 1923 г. Описание работы над словарем, заметки об успехах и трудностях в подборе и написании слов составляют основную дискурсивную связь в дневниковом повествовании.
Автор придавал особое значение этому словарю не только как к лингвистическому материалу, но и как к историческому, культурологическому и этнопсихологическому источнику, характеризующему идентичность народа саха: «Слова эти интересны в том отношении, что по ним можно судить о степени влияния русских на якутов и о степени усвоения последними культурных понятий. По ним также можно судить о способности переимчивости якутов» (22 ноября 1923 г.). Кулаковский планировал словарь закончить через два-три года, но закончил всего за два с небольшим месяца. Оснастил его транскрипцией и написал обширную теоретическую статью об якутском языке, его лексическом потенциале.
В работе над словарем, написав за четыре дня 1306 слов, он впервые в дневнике оценивает себя с положительной стороны, как знатока языка: «Кажется, имею основание прихвастнуть, что в такой короткий срок (4 дня) без всякого пособия написать столько может только знаток языка» (запись 23 ноября 1923 г.). Причем, самооценивание себя как знатока языка у него соотнесено с восхищением способностями своего народа: «Я еле-еле [до]кончил словарик. Вышло 2358 слов, каково? Ай, да якуты!» (7 января 1924 г.).
Основания для такой высокой оценки своего труда и богатства материала, действительно, были. Этот словарь стал первым в якутской лексикографии тезаурусным словарем заимствований, легшим в основу современных словарей. Профессор П.А. Слепцов оценивает данную работу как «наиболее полное собрание заимствованных слов, употреблявшихся в дореволюционном разговорном якутском языке» [13, С. 76]. А, значит, он был крайне важен для создания языковой картины мира саха на рубеже веков.
В это же время Кулаковский начинает запись на русском языке якутских легенд и преданий. Записано более 10 преданий. Если проследить за хронологией записей нарративного материала, можно заметить, что Кулаковский начинает записи с легенд родных мест – таттинского и центрального регионов Якутии, которые он знал глубже. К тому же это было законоиерно для человека, находящегося вдали от родины и тоскующего по родным местам.
Записи нарративного материала у Кулаковского в основном относятся к генеалогически-родословным или этногенетическим формам фольклорного нарратива. В этом комплекте нарративов выделяются легенды о значимых персонажах якутской мифологии Дыгыне, Таас Уллунгахе, шаманах Кярякян и Шаман Гусь и др. Обращение к мифологическому нарративу у Кулаковского имеет прямое отношение к этнической идентичности, к формированию национальной художественной картины мира. Ученый для записи избирает тексты о культурных героях, изменивших мироустройство, созидателях и исследователях, оставивших след в истории народа. Думается, что это имеет внутренние связи с процессом идентификации самого автора, с его созидательными, просветительскими идеями об устройстве нового, гармоничного, разумного мира.
Весь комплекс научных работ Кулаковского, написанных в сеимчанский период, говорит о том, что результат его социокультурной адаптации в кризисной ситуации был намного богаче исходных его устремлений. В данном случае мы можем говорить о надситуативной активности, присущей творческой личности [11], когда у личности проявляется способность подниматься над уровнем требований ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения исходной задачи.
Повседневные записи обстоятельно не освещают главное дело жизни поэта – его литературную деятельность, есть лишь констатация фактов о работе над текстами произведений, без комментария деталей, объяснения какого характера проводилась работа, без смысловых прорывов и эмоциональных инсайтов, но литературная работа велась им непрерывно: параллельно с научными изысканиями шла постоянная, планомерная творческая работа над поэтическими текстами. Почти каждый день идет «переписывание» ранее написанных произведений и создание новых. Текстологический анализ рукописных вариантов поэтических произведений во втором томе «Полного собрания сочинений А.Е. Кулаковского» (2019 г.), свидетельствует о том, что именно в сеимчанский период были значительно доработаны и доведены до совершенства поэма «Сон шамана», цикл «Портреты якутских женщин», поэма «Дары реки» и др.; написаны «Вилюйский танец», «Песня старухи» (первый вариант «Песни столетней старухи»), поэма «Наступление лета» и др. И тот факт, что сразу по возвращении в Якутск в 1924 г., почти без редактирования (кроме идеологизированных правок цензуры) был издан его двухтомник «Ырыа-хоһоон» («Песни-стихи»), свидетельствует о высокой результативности литературной работы в сеимчанский период.
Изучение литературного наследия Кулаковского в целом, текстологическое сравнение вариантов произведений, выявление происхождения образов и мотивов, лирических сюжетов его нарративной поэзии, подводит к заключению, что вся его деятельность, включая научную, была направлена на создание национальной якутской литературы. Научный задел, сделанный в области языка, фольклора, этнографии, в конечном счете, был творчески использован в поэтическом творчестве.
Заключение
Сеимчанский дневник занимает особое положение в биографике А. Е. Кулаковского, в раскрытии эволюции его самосознания. Он показывает сложный процесс самоидентификации творческой личности в изменяющемся мире. Поставленные самим автором самоидентифицируюшие целеустановки изначально определили поведенческие, деятельностные и коммуникативные стратегии. Выбор поэтом адекватной стратегии самоидентификации способствует самосохранению и творческому совершенствованию поэта и ученого, преодолению кризиса идентичности в эпоху перемен. В дневнике можно выявить, расшифровать специфику образа создателя, творца литературной традиции и исследователя, интеллектуала со своим особым языком, поведенческой культурой, внешним обликом, навыками и умениями.
Социально-культурная адаптация поэта и ученого А.Е. Кулаковского в чужом культурно-ландшафтном пространстве может расцениваться как эффективное, успешное в плане самоидентификации личности первопоэта и ученого. Созидательная форма самоидентификации и социокультурной адаптации осуществлялась формами инновативного, творческого приспособления к предлагаемым нестандартным для поэта жизненным обстоятельствам. Преодоление внешних и внутренних ограничений происходило через активную творческую – литературную и научную – деятельность.
| Конфликт интересов Не указан. | Conflict of Interest None declared. |
Список литературы / References
- Зализняк, А. Дневник: к определению жанра / А. Зализняк // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 106. – С. 162-181
- Замятин Д.Н. Сопространственность, территориальная идентичность и место: к пониманию политик постмодерна / Д.Н. Замятин // Арктика. ХХΙ век. Гуманитарные науки. – 2014. – №2(3). – С. 4-36.
- Зарецкий Ю. П. Свидетельства о себе «маленьких людей»: новые исследования голландских историков / Ю. П. Зарецкий // Социальная история: ежегодник. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2008. – С. 329-340.
- Кремер Е.Н. Этническая идентичность и национальное самосознание в пространстве художественного текста автора-билингва / Е.Н. Кремер // Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность. – 2015. – № 5. – С.310-320
- Кулаковская Л. Р. Научная биография А. Е. Кулаковского: личность поэта и его время / Л. Р. Кулаковская. – Новосибирск: Наука, 2008. – 296 с.
- Кулаковский А.Е. Дневник. 1923 / А.Е. Кулаковский // НА РС(Я), Ф.1480. Оп.1. Д.18 НА РС(Я), Ф.1480. Оп.1. Д.18
- Лашкевич А. В. Личный дневник и жанры «дискурса персональности» в контексте межкультурной коммуникации: монография / А. В. Лашкевич. – Ижевск: издательство «Удмуртский университет», 2014. – 173 с.
- Лаппо М.А. Самоидентификация: семантика, прагматика, языковые ресурсы: монография / М. А. Лаппо ; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб.гос. пед. ун-т. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2013. – 180 с.
- Маслоу А. Мотивация и личность. Серия: Мастера психологии / А.Маслоу . – Санкт-Петербург, 2019. – 400 с.
- Михеев М.Ю. Дневник как эго-текст (Россия, XIX - XX) / М.Ю. Михеев. – Москва: Водолей Publishers, 2007. – 262 с.
- Петровский В.А. Психология неадаптивной активности / В.А. Петровский. – М.: Горбунок, 1992. – 224 с.
- Репина Л.П. Персональные истории и «новая биографическая история»: от индивидуального опыта к социальной памяти / Л.П. Репина // Сотворение Истории. Человек - Память - Текст. – Казань: Изд-во КГУ, 2001. – С. 344-360
- Слепцов П. А. Работа Кулаковского «Русские слова, перенятые и усвоенные якутами» / П. А. Слепцов // Кулаковский: сборник докладов к 85-летию со дня рождения Алексея Елисеевича Кулаковского. – Якутск: Якутское книжное издательство, 1964. – С. 74-79.
- Суржикова Н. В. Эго-документы: интеллектуальная мода или осознанная необходимость? / Н. В. Суржикова // История в эго-документах: исследования и источники: сб. статей / гл. ред. Н. В. Суржикова. – Екатеринбург: АсПУр, 2014. – С. 6-13.
- Тобуроков Н.Н. Өксөкүлээх Өлөксөй олоҕун уонна айар үлэтин үрдүк үөрэх кыһатыгар үөрэтии (Изучение жизни и творчества Ексекюлях Алексея в высшем учебном заведении) / Н.Н. Тобуроков. – Якутск: Кудук, 2001. – 110 с.
- Троицкий Ю. Л. Аналитика эго-документов: инструментальный ресурс историка / Ю. Л. Троицкий // История в эго-документах: исследования и источники / Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург: АсПУр, 2014. – С. 14-32
- Юнг К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. М.: Ренессанс, 1991. 262 с.
Список литературы на английском языке / References in English
- Zaliznyak, A. Dnevnik: k opredeleniyu zhanra [Diary: towards the definition of the genre] / Zaliznyak, // Novoe literaturnoe obozrenie. – 2010. – № 106. – P. 162-181. [in Russian]
- Zamyatin D.N. Soprostranstvennost', territorial'naya identichnost' i mesto: k ponimaniyu politik postmoderna [Spatiality, Territorial Identity, and Place: Towards Understanding Postmodern Politics] / N. Zamyatin // Arktika. HKHΙ vek. Gumanitarnye nauki. – 2014. – №2(3). – P. 4-36. [in Russian]
- Zareckij YU. P. Svidetel'stva o sebe «malen'kih lyudej»: novye issledovaniya gollandskih istorikov [Testimonials of «Little People»]: New Research by Dutch Historians / P. Zareckij // Social'naya istoriya: ezhegodnik. – Sankt-Peterburg: Aletejya, 2008. – P. 329-340. [in Russian]
- Kremer N. Etnicheskaya identichnost' i nacional'noe samosoznanie v prostranstve hudozhestvennogo teksta avtora-bilingva [Ethnic identity and national identity in the space of a literary text of a bilingual author] / E.N. Kremer // Vestnik RUDN, seriya Voprosy obrazovaniya: yazyki i special'nost'. – 2015. – № 5. – P.310-320. [in Russian]
- Kulakovskaya L. R. Nauchnaya biografiya A. E. Kulakovskogo: lichnost' poeta i ego vremya [Scientific biography of A. E. Kulakovsky: the personality of the poet and his time] / R. Kulakovskaya. – Novosibirsk: Nauka, 2008. – 296 p. [in Russian]
- KulakovskyE. Dnevnik. 1923 [Diary. 1923] / A.E. Kulakovsky // NA RS(YA), F.1480. Op.1. D.18 [in Russian]
- Lashkevich A. V. Lichnyj dnevnik i zhanry «diskursa personal'nosti» v kontekste mezhkul'turnoj kommunikacii: monografiya [Personal diary and genres of "personality discourse" in the context of intercultural communication] / V. Lashkevich. – Izhevsk: publ. house «Udmurtskij universitet», 2014. – 173 p. [in Russian]
- Lappo M.A. Samoidentifikaciya: semantika, pragmatika, yazykovye resursy [Self-identification: semantics, pragmatics, language resources]: monografiya / M. A. Lappo ; Min-vo obrazovaniya i nauki RF, Novosib.gos. ped. un-t. – Novosibirsk : NGPU house, 2013. – 180 p. [in Russian]
- Maslou A. Motivaciya i lichnost' [Motivation and personality] / Maslou. Seriya: Mastera psihologii. – Sankt-Peterburg, 2019. – 400 p. [in Russian]
- Miheev M.YU. Dnevnik kak ego-tekst (Rossiya, XIX - XX) [Diary as an ego-text (Russia, XIX - XX)] / YU. Miheev. – Moscow: Vodolej Publishers, 2007. – 262 p. [in Russian]
- Petrovskij V.A. Psihologiya neadaptivnoj aktivnosti [The psychology of maladaptive activity] /A. Petrovskij. – M.: Gorbunok, 1992. – 224 p. [in Russian]
- Repina L.P. Personal'nye istorii i «novaya biograficheskaya istoriya»: ot individual'nogo opyta k social'noj pamyati [Personal stories and the «new biographical story»: from individual experience to social memory] / P. Repina // Sotvorenie Istorii. CHelovek - Pamyat' - Tekst. – Kazan': KGU publishing house, 2001. – P. 344-360. [in Russian]
- Slepcov P. A. Rabota Kulakovskogo «Russkie slova, perenyatye i usvoennye yakutami» [Kulakovsky's work "Russian words adopted and mastered by the Yakuts"] / P. A. Slepcov // Kulakovskij: sbornik dokladov k 85-letiyu so dnya rozhdeniya Alekseya Eliseevicha Kulakovskogo. – YAkutsk: Yakutsk house, 1964. – P. 74-79. [in Russian]
- Surzhikova N. V. Ego-dokumenty: intellektual'naya moda ili osoznannaya neobhodimost'? [Ego Papers: Intellectual Fashion or Conscious Necessity?] // Istoriya v ego-dokumentah: issledovaniya i istochniki: sb. statej / ed. by V. Surzhikova. – Ekaterinburg: AsPUr, 2014. – P. 6-13. [in Russian]
- Toburokov N.N. Izuchenie zhizni i tvorchestva Eksekyulyah Alekseya v vysshem uchebnom zavedenii [Study of the life and work of Alexey Eksekyulah in a higher educational institution]. – Yakutsk: Kuduk, 2001. – 110 p. [in Yakut]
- Troickij YU. L. Analitika ego-dokumentov: instrumental'nyj resurs istorika [Analytics of ego-documents: a historian's instrumental resource] // Istoriya v ego-dokumentah: issledovaniya i istochniki / Institut istorii i arheologii Ural'skogo otdeleniya Rossijskoj akademii nauk [History in ego documents: research and sources / Institute of history and archeology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences]. – Ekaterinburg: AsPUr, 2014. – P. 14-32 [in Russian]
- Yung K. G. Arhetip i simvol [Archetype and symbol] / Yung K. G.: Renessans, 1991. 262 p. [in Russian]