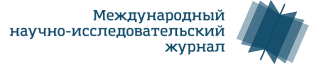THE CORPORAL TOPOS, OR THE AXIOLOGY OF BOUNDARIES
THE CORPORAL TOPOS, OR THE AXIOLOGY OF BOUNDARIES
Abstract
This article, based on Thomas Mann's novel, attempts to prove that the postmodern concept of the ‘body without organs,’ which has become an ‘empty sign,’ is false. From the point of view of Mann's artistic method, the new ‘Faustian body’ of the novel's protagonist, who develops the archetype of the new European man discovered by Goethe, is referential, but this referentiality of the hero's body, infected with ‘meta-venereal meningitis,’ testifies to his spiritual and topological transcendence into the heteronomy of hell. The genealogy of the invasion of demonic evil into the corporal topos is explored, taking into account the tradition of the pact with the Devil and the phenomenology of the body in the fate of the Germanic ethnos, associated with the permanent dynamics of the destruction of the boundaries of traditional corporeality. Based on an interdisciplinary approach, the connection between the recurring artistic image of Faust and the problem of mass psychosis in Germany during National Socialism is traced, taking into account that this problem is associated with the mysterious dynamics of collective unconscious processes that are not recognised in the space of daily cognitive activity, but which nevertheless have a powerful affective impact, causing strong bodily innervation. The problem of blood as the internal connective tissue of the bodily organism, associated with the relationship between the soul and time, is raised. The soteriological nature of music is emphasised, preserving its independence from the hero's conscious commitment to a pact with the forces of hell, which is the cause of enantiodromia in his fate, isomorphic to Nietzsche's fate.
1. Введение
Одним из главных топосов модернистской и постмодернистской семиосферы является топос тела, понимаемого как имманентной самой себе плотской среды. Тело рассматривается как аксиологическая вершина автономного принципа реальности, преодолевшего все предшествующие трактовки субъекта как космоцентрированного, трансцендентного, трансцендентального, психологического и т.п. Именно тело, обретя имманентный категориальный статус, стало основной сферой разворачивания социальных и дискурсивных кодов, концентрирующей в своей автохтонной процессуальности все наиболее значимые для современной цивилизации ценности, будь это «тело-текст» у Р. Барта , или «феноменологическое тело» у Мерло-Понти , или «социальное тело» у Ж.Делеза и Ф.Гваттари. В этой культурной капитуляции перед телом, безусловно, проявляется главная аксиологическая установка базовой парадигмы Нового времени, а именно — установка на безусловную ценность природного детерминизма. Тело стало судьбой, единственным центростремительным топосом всех главных практик, рассчитывающих на чудо имманентных самоорганизаций — от физиологических до ценностно-когнитивных, поскольку телесность предстает как строгая структурно-функциональная упорядоченность, в которой каждый орган в своей имманентной детерминированности знает истинное значение своих «архе» и «телосов», то есть имеет однозначную природно-кодированную референтную соотнесенность. Тело рассматривается как идеально центрированная семантическая среда, по отношению к которой все тексты культуры и цивилизации предстают как ее анаграммы.
2. Основная часть
Однако уже в дискурсе самого постмодернизма, несмотря на все его доверие к телу, началось означивание того факта, что тело проникнуто энергиями децентрации, а в этой связи и десемантизации, то есть тенденциями отчуждения от своих исходных значений в аксиологической партитуре телесного симфонизма. Одним из первых, кто обратил на это внимание и ввел в систему своей аргументации нового кода жизни по ту сторону всех моральных ценностей, «по ту сторону добра и зла», был Ф. Ницше. В «Генеалогии морали» он выдвигает тезис о том, что любой орган тела (равно как физиологический или психический навык) не есть фиксированный результат телеологической эволюции, но представляет собой лишь случайное и ситуативное проявление внутреннего, по его мнению, созидательного потенциала «воли к власти» . Эта интуиция Ницше оказалась подхваченной в истории культуры ХХ века, прежде всего, в постмодернизме: в семиосфере постмодернистской теории тела появляется термин «тело без органов», в семантической основе которого идея об имманентном креативном потенциале децентрированных зон тела, то есть отдельных органов, лишенных общей центростремительной идеи организма. Согласно Делёзу и Гваттари, «тело без органов» представляет собой набор порогов и уровней, между которыми свободно циркулируют невидимые потоки сил и «интенсивностей» . Его невозможно изобразить в виде конкретного объекта или вещи, оно аморфно и не имеет границ, сообщаясь с другими «телами без органов» через посредство поля стабилизации сил или «областей непрерывной интенсивности», именуемых Делёзом и Гваттари «плато» . По мнению авторов, «тело без органов» противостоит не органам, а той организации органов, которую называют организмом, — органической организации органов. Постмодернисты не испугались дезорганизации органического тела, рассматривая «тело без органов» как топос новой свободы для производства желаний , как простор для всевозможных экспериментов, как «пустое тело», аналогичное «семантической фигуре «пустого знака» в постмодернистской текстологии, основанной на радикальном отказе от идеи референции» . По нашему мнению, постмодернисты не заметили или не посчитали значимым то, что заметили многие художники. Согласно Гадамеру, именно художники — те, в коих сущее, пусть скрытое, но не симулятивное, «обретает голос в своей истине». Мнение Гадамера вновь обостряет вопрос о специфике художественного метода, благодаря которому художники претендуют на особый статус референтной соотнесенности по причине того, что «в опыте искусства мы имеем дело с истинами, решительно возвышающимися над сферой методического познания» , основанного на естественно-научной парадигме.
Основная идея данной работы по мотивам «романа тайны и жизни» Томаса Манна «Доктор Фаустус» сводима к следующей мысли: «тело без органов» на самом деле является телом, утратившим органы в их исходной органической, онтологообразующей специфике жизни, но не является «пустым знаком», лишенным референтности. Оно — референтно, но это — референтная соотнесенность с телосом гибели, соотнесенность, сопряженная с мощной энергией эстетических инспираций и основанная на синергетике зла, проникающего в топос тела через биохимию беззаконного пола, ставшего эпицентром новой танатологической ценностной системы, окончательно обрушившей дискурсы традиционных аксиологий. Этот трансцензус тематизирован в художественной феноменологии тела в судьбе германского этноса, связанной с перманентной динамикой разрушения границ традиционной телесности, что в литературе немецкого романтизма ознаменовано чередой утраты телоцентрических признаков — тени («Удивительная история Петера Шлемиля» А. фон Шамиссо), глаз («Песочный человек» Гофмана), телесной идентичности («Амфитрион» Г. фон Клейста) и др. Но, пожалуй, нет в немецкой литературе произведения, в котором бы столь парадигмально значимо акцентировалась проблема тела, как в романе Манна. Одна из тайн этого романа в том, что анатомическая суть развития сифилиса интерпретируется вступающим в диалог с героем Чертом как проникновение в человека метафизических метастазов погибели зла. Черт подробно описывает этот процесс, применяя точные медицинские термины, которые, однако, чуть-чуть метафизируются: патогенные спирохеты, проникающие в человека, — агенты мета-спирохетоза; венерический менингит, пробивающий паренхиму, Черт характеризует как мета-венерический и т.д. По его словам, «вся суть волшебства — в осмосе, в диффузии жидкости, в пролиферации» . Осмос в химии (от греч. «толчок, давление») — это диффузия вещества, обычно растворителя, обусловленная стремлением к термодинамическому равновесию. Не вдаваясь в химико-физические подробности, отметим, что Черт придает осмосу не только физико-медицинское, но, прежде всего, интерипостасное значение: духовная ипостась зла в осмосе становится физико-биологической ипостасью. Черт говорит герою:
«Я не продукт твоего пиального очага, нет, это очаг, понимаешь ли, позволяет тебе меня воспринять… Погоди, то, что там копошится и прогрессирует, позволит тебе выкинуть штуку похлеще, преодолеть еще не такие препятствия, подняться над скованностью и немочью… Подожди десять, двенадцать лет, пока не достигнет своего апогея светлый хмель, освобождающий от забот и сомнений, и ты узнаешь, за что платишь, ради чего закладываешь нам тело и душу. Тогда у тебя sine pudore взойдут из аптечного семени осмотические цветы…»
.«Осмотические цветы» — это «цветы зла», для произрастания которых Черту нужен «цветочный горшок» — тело человека, выбирающего в тайне своей свободной воли договор не с Богом, а с Чертом. Именно в этом тайна пролиферации, которую наряду с осмосом упоминает Черт: пролиферация — это разрастание биологической ткани путем новообразования клеток, в том числе раковых клеток бытия.
Создается впечатление, что на фоне этой биохимической скрупулезности Черт пытается разъяснить герою — талантливому композитору — механизм трансцензуса = перехода духовной, надчувственной метафизики в физику чувства, в психофизическую определенность конкретного экзистенциального состояния. Это — механизм демонизации тела, но не только тела человека: венерическое заражение плоти ведет в конечном итоге к болезни бытия всего этноса. Это этногенетическое заболевание синхронизировано в художественной реальности романа с военно-политической реальностью гибели Германии, зараженной чумными палочками национал-социализма. Рассказчик истории нового Фауста пишет: «Германия, ты идешь к гибели, а я еще помню о твоих надеждах! Вернее, о тех надеждах, которые мир на тебя возлагал…» . Симптоматика духовной эпидемии, поразившей Германию, была замечена К.Г. Юнгом, попытавшимся на основе методологии аналитической психологии объяснить охватившую немецкий народ истерию, синхронизированную, однако, с мощным патриотическим подъемом и консолидацией общества вокруг нового нацистского руководства. Во время визита фашистского лидера Италии Муссолини в Берлин 26 сентября 1937 года Юнг наблюдал за его поведением и поведением Гитлера и с этих пор активно занялся проблемой массовых психозов, осознавая то, что эта проблема связана с таинственной динамикой коллективно-бессознательных процессов, которые нередко не осознаются в пространстве дневной когнитивной деятельности, обладая при этом мощным, как правило, аффективным воздействием. Психолого-аналитический подход Юнга позволяет приблизиться к пониманию причины германской одержимости во времена Гитлера, поскольку основан на научно обоснованном Юнгом факте, что сознательный разум не является единственным фактором человеческих мыслей и побуждений: «мы всегда и во всем — индивидуально и коллективно — пребываем под влиянием — плохим или хорошим, вопрос другой — той энергии, которая нами не осознается» . Будучи недоступным для ясного осознания, коллективно-бессознательный энергийный комплекс, обладая мощным аффицирующим потенциалом, предстает как могучее инициирующее начало в коллективной психике. Важным фактором этого воздействия является сознательно переживаемая, но бессознательно обусловленная установка, то есть «готовность психики действовать или реагировать в известном направлении» . Эта установка нередко сопровождается энергетическим выбросом из глубин коллективно-бессознательного комплекса, вызывающим непредвиденные разумом аффекты, способные лишить этнос чувства самосохранения и побудить его стать соучастником массового психоза вплоть до гипнотического участия в «цирковом представлении собственного саморазрывания» . Важно отметить, что в своей теории аффектов Юнг уделяет серьезное внимание проблеме телесности, связывая аффект с таким состоянием чувств и мыслей, которые отличаются своеобразным нарушением чувства реальности и сильной телесной иннервацией тела . В свете современной когнитологии подход Юнга коррелирует с проблемой модулярности сознания и причин различия когнитивных модулей у разных этносов. Так, развивая теорию коллективного бессознательного, Юнг пишет:
«…наряду с личными бессознательными содержаниями существуют и другие содержания, возникающие не из личных приобретений, а из наследственной возможности психического функционирования вообще, именно из наследственной структуры мозга»
.В этой связи становится и более понятным реккурентная генеалогия образа Фауста в германской традиции, поскольку именно художественная фантазия как особый вид имагинативной деятельности является, по Юнгу, творческим процессом, в котором художник, будучи представителем определенного этноса, наиболее чутко образно воплощает то, что происходит в глубинах коллективного бессознательного его народа в мистическом соучастии (термин Леви-Брюля) с его судьбой. Образ Фауста есть энграмма, изначальный образ, «образовавшийся путем уплотнения бесчисленных, сходных между собой процессов», то есть «типическая основная форма известного, всегда возвращающегося душевного переживания» . Более того, Юнг допускает, что «изначальный образ есть психическое выражение для определенного физиологически-анатомического предрасположения» .
По условию договора в романе «Доктор Фаустус» герой получает «время, гениальное время, окрыляющее время» . Взамен Черт требует «отказ»: «Ад будет тебе споспешествовать при условии, однако, что ты станешь отказывать всем сущим — всей рати небесной и всем людям… Ты не смеешь любить» . Подобно христианскому онтологизму, в искусстве именно любовь определяет то, что называется реальностью. В христианстве главной способностью человека, связанной со свободой воли, является способность любви к Богу, благодаря которой кодируются все другие лики любви — к ближнему, к природе, к Другому, даже к врагу. Черт требует отказа именно от этой любви. Но важно то, что это требование совпадает с внутренней установкой героя: он ждет его, как инициацию, как катализатор, как квант действия. В конце жизни он исповедуется:
«Я был рожден для ада, — Я дал пищу моей гордыне, когда стал изучать theologiam в Галле, в университете, но не во славу Божию, а во славу другого, и мое богословие втайне было уже началом сделки, было тайным уходом не к Господу Богу, а к нему, великому religiosus. Но что рвется к черту, того уж не остановить и не удержать…»
.Поэтому, с точки зрения языковой науки, «Ты не смеешь любить» Черта — это не только приказ, требование, императив, но, прежде всего, перформативное утверждение, которое может утвердиться, потому что «пиальный очаг» героя уже готов к этому утверждению: «пиала» диалогична в своей открытости для трансцензуса духовной энергии зла в психофизическую реальность плотской телесности. Она уже инфицирована в своей «венерической физике» мета-венерическими спирохетами метафизики зла, проникшими в кровь плотской телесности.
Связь тайны времени и тайны крови, давно открытая в религиозной традиции в специфике двух противоположных потоков времени — времени жизни и времени смерти, отражена и в художественном хронотопе романа «Доктор Фаустус». Заражение крови, столь подробно описанное в романе, связано с проникновением в кровь темпорально-энергийного действия опьяняющего движения к гибели, о чем говорит сам Черт в диалоге с Адрианом:
«Между нами существует сделка, ты скрепил ее своей кровью… Ты получил у нас время, гениальное время, окрыляющее время»
. «Великое время, сумасшедшее время, совершенно чертовское время, со взлетами и сверхвзлетами…» .И именно герой предваряет в своем договоре с Чертом судьбу всей Германии: «Германия, — пишет рассказчик, — с лихорадочными пылающими щеками, пьяная от сокрушительных своих побед, уже готовилась завладеть миром в силу того единственного договора, которому хотела остаться верной, ибо подписала его кровью» .
Финал романа, однако, парадоксален, о чем свидетельствует комментарий главного рассказчика Серенуса Цейтблома по поводу последнего музыкального произведения Леверкюна «Плач доктора Фаустуса»:
«…будоражит наши чувства тихой своей речью, которая превыше разума, своей говорящей невыговоренностью, присущей одной только музыке. Я имею в виду финальную оркестровую часть, в которой растворяется хор и которая звучит как плач Господа Бога над гибелью Своего мира, как горестное восклицание Творца: «Я этого не хотел!». Здесь, думается мне, под конец достигнуты предельные акценты печали, последнее отчаяние отождествилось со своим выражением, и… я не хочу этого говорить, боясь оскорбить неизлечимую боль творения Леверкюна разговором о том, что до последней своей ноты оно несет с собой другое утешение… в том, что человеку дано «поведать, что он страждет». Нет, суровая музыкальная поэма не допускает такого утешения или просветления! Но, с другой стороны, разве же парадоксу искусства (когда из тотальной конструктивности родится выражение – выражение как жалоба) не соответствует религиозный парадокс (когда из глубочайшего нечестия, пусть только как едва слышный вопрос, пробивается росток надежды)? Это уже надежда по ту сторону безнадежности, трансценденция отчаяния, не предательство надежды, а чудо, которое превыше веры»
.Эти финальные аккорды судьбы Леверкюна, свидетельствующие о том, что, в отличие от тела, его музыка оказалась неподвластна договору с Чертом, поэтому жизненный путь героя, подобно его прототипу Ницше, отмечен энантиодромией. Это понятие, введенное Гераклитом и означающее по-гречески «бег навстречу», характеризует в аналитической психологии Юнга то явление, где сознательная установка односторонне ориентированного субъекта, несмотря на ее связь с коллективно-бессознательным комплексом, обусловливает во временной последовательности развитие более мощной бессознательной противоположности, что приводит к отождествлению сознательно ориентированного субъекта с тем, против чего или против кого он вёл борьбу . Так, например, Ницше от признания того, что идентифицирует себя с Антихристом, приходит к тому, о чем пишет в письме к Георгу Брандесу от 4 ноября 1889 года: «Другу Георгу! После того как ты открыл меня, невелико было искусство найти меня: трудность теперь заключается в том, чтобы потерять меня. Подпись: Распятый (Der Gekreuzigte)» . Юнг считает, что в своей энантиодромии больной Ницше, переживший 3 января 1889 года апоплексический удар, отождествил себя с Христом . Известный исследователь Ницше Свасьян К.А. несколько иначе комментирует этот переход от Антихриста к Распятому:
«Не будем соблазняться: Распятый могло бы означать здесь — распятый разбойник: в сущности, прикинувшийся разбойником музыкант, посягнувший решительно на все абсолютное, кроме собственного абсолютного слуха, и смогший, вопреки себе, расслышать Голос (курсив — В.Г.), к которому остались благополучно глухи века традиционной морали и профессорской философии»
.Не вызывает сомнений, что Свасьян под распятым разбойником имеет в виду того из двух распятых вместе с Христом на Голгофе злодеев, который отказался злословить Его (Лк. 23: 42–43). В смысловом изоморфизме к суждению Свасьяна о Ницше распознается и то, что пишет Цейтблом о финале последнего музыкального произведения Леверкюна «Плач доктора Фаустуса».
Сущность этого парадокса объясняется онтологической природой музыки, которая не принимает условия договора Фаустуса с Чёртом, слыша «Голос, к которому остались благополучно глухи века традиционной морали и профессорской философии» . О связи музыки и тела много написано, однако «музыкальный роман» Манна доводит эту связь до эсхатологической границы последней надежды гибнущей на его глазах Германии. В своем эссе «Германия и немцы» он с горечью пишет, что мир является свидетелем того, как «на наших глазах черт буквально уносит душу» его родины . В романе «Доктор Фаустус» эта душа, несмотря на вторжение в тело сил ада, еще наполнена духом музыки спасения. Не этот ли дух имеет в виду известная филолог Катарина Моммзен, когда в своей работе «Гете и наше время», упрекая современную политику Германии, пишет следующее: «Отношение немецкой политики к немецкому духу представляет собой особенно мрачную главу немецкой истории… О немецком духе никогда не проявляли заботы» .
3. Заключение
Рассуждая о забвении наследия Гете в современной Германии, Моммзен подчеркивает, что «немецкая история уж слишком часто предавала его» . Тем самым она оказывается в примечательной близости и к основной идее романа Манна, связанного с аксиологией последней границы в истории Германии, которой грозит окончательная утрата собственной культурной идентичности и полное предательство пусть противоречивого, но великого духа немецкого народа, если он не услышит Голос Того, Кто в «Плаче доктора Фаустуса» обращается ко всей Германии с горестным восклицанием: «Я этого не хотел!» .