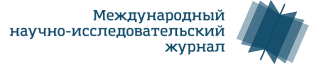ПЛАТОН И ГАМЛЕТ: ШЕКСПИР В ФИЛОСОФИИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА
ПЛАТОН И ГАМЛЕТ: ШЕКСПИР В ФИЛОСОФИИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА
Аннотация
В статье представлено аналитическое рассмотрение философской аналогии между Платоном и Гамлетом, предложенной Вл. Соловьёвым, в более широком историко-философском контексте. По мысли русского философа, жизненная трагедия Платона объективна и универсальна и этим противопоставляется личной и по существу случайной трагедии Гамлета. В интерпретации Соловьёва Платон выступает как осиротевший ученик Сократа, ищущий добрый смысл бытия, о котором говорил казнённый учитель, в мире вечных сущностей — идей и законов. Разрыв между неподлиным миром становления и вечным миром идей должен преодолеть Эрос — «строитель моста». Однако, лишённый личного религиозного опыта Сократа, Платон, по оценке Соловьёва, так и не смог понять истинного назначения Эроса и поэтому в его философии личность оказывается подчиненной безличным сущностям и року.
Трагедия Гамлета — это трагедия осиротевшего сына, однако она, по мысли В. Соловьёва, носит частный характер: в ней нет проблемы оправдания мира за творящееся в нём зло. Однако в шекспировской трагедии есть тема вины человека. Трагедия Гамлета раскрывается в экзистенциальном одиночестве и принципиальной невозможности построить «мост» между человеком и трансцендентным. В отличие от Платона, Гамлет отягощён сознанием вины, но, как и Платон, он чувствует бездну рока. Проводя параллель между Гамлетом и Орестом, Вл. Соловьёв указывает на возврат к ветхозаветной концепции кровной мести. Однако рассуждения философа позволяют глубже понять, как рождается новый тип человеческого сознания.
Во многом неожиданные сравнения Вл. Соловьёва позволяет увидеть в параллели между Платоном и Гамлетом архетипическую драму перехода от мира безличных идеальных сущностей к миру сомнения, одиночества и безответного поиска смысла.
1. Введение
Русская философия, которая на рубеже XIX-XX века находилась в поиске своей идентичности, естественным образом не могла пройти мимо Шекспира и его самой философской трагедии «Гамлет» в особенности. Вообще, эстетический способ постижения мира и человека особенно близок русскому духу, и из всех английских писателей Шекспир, возможно, ближе всех нашему миросозерцанию, даже ближе Диккенса. Шекспир всегда находился в фокусе внимания русских мыслителей. Лев Шестов начал своё философствование с Шекспира; П. Флоренский и Вяч. Иванов посвящают Шекспиру немало размышлений; шекспировский «Гамлет» стал предметом книги Л. С. Выготского. А что же основоположник русской философии, В. С. Соловьёв?
У Вл. Соловьёва, хотя сам он был и поэтом, и литературным критиком, нет специальных работ, посвящённых Шекспиру. Он касается Шекспира только один раз — в очерке, посвящённом жизни и творчеству Платона. Это интереснейшая работа, значение которой, возможно, не оценено в должной степени до сих пор. В ней русский философ описывает то, что называет «жизненной драмой Платона» — его судьбу как человека и философа, судьбу его учения. И здесь, говоря о катастрофе, с которой начинался платоновский идеализм, и катастрофе, которой, по мнению Вл. Соловьёва, он закончился, русский философ сравнивает реальную жизненную трагедию с сюжетом самой выдающейся литературной трагедии, с шекспировским «Гамлетом». Это сравнение реальности и вымысла, огромной платоновской системы и Гамлетовских «разговоров» делается в пользу жизни. По мнению Вл. Соловьева, трагедия Гамлета носит преимущественно случайный характер, тогда как жизненная трагедия Платона имеет высшую сущность: абсолютную закономерность. В реальной истории, а не в поэзии, усматривает Вл. Соловьёв столкновение высшей правды и глубочайшего зла. Трагедия Гамлета — это трагедия личности, она связана со свойствами индивида и поэтому по существу своему случайна, тогда как трагедия Платона объективна, не зависит от человека, истории, общества и поэтому закономерна.
В чём же видит трагедию Платона Вл. Соловьёв и что сближает и отличает её от трагедии принца Датского? Такое неожиданное во многом сравнение при очевидном сходстве ситуаций, парадоксальность выводов, возможно, намеренно заострённых, обнаруживают существо мысли русского философа и позволяют глубже понять как Шекспира, так и Платона.
2. Обсуждение
Вл. Соловьёв первым обращает внимание на сходство преамбулы «Гамлета» с той жизненной преамбулой, которая предшествует рождению грандиозной системы платоновского идеализма. Гамлет узнаёт о злодейском убийстве отца, Платон становится свидетелем суда и казни над своим учителем Сократом. Мысль Гамлета разбужена Призраком умершего короля, мысль Платона вдохновлена образом погибшего наставника. В основе будущего сюжета — и литературного, и жизненного — оказывается драма, подлое убийство, трагедия осиротевшего сына и ученика.
Сопоставляя жизненные и литературные коллизии, Вл. Соловьёв заостряет внимание на том, что судьба Платона, потерявшего духовного отца, который, образно говоря, родил его для философии, трагичнее, чем судьба Гамлета. Драма Платона обладает сверхличным пафосом, потому что Сократ не просто духовный отец — он праведник, он умер за правду. Он был убит, пишет Соловьёв, «не грубо-личным злодеянием, не своекорыстным предательством, а торжественным публичным приговором законной власти… И это ещё могло быть случайностью, если бы праведник был законно убит по какому-нибудь делу… постороннему его праведности. Но он был убит именно за неё, за правду, за решимость исполнить нравственный долг до конца» .
В чём же заключается правда Сократа? «Сущность Сократова учения, — напоминает Вл. Соловьёв, — …состояла… в том, что, независимо ни от каких внешних фактов и положений, есть безусловный, по существу добрый, смысл бытия» , «добро само по себе» . Подлинная задача философа — а по Сократу каждый человек обязан заниматься философией, чтобы быть достойным своего имени — заключается в отыскании высшего добра и следовании ему. Все мы помним, что, защищаясь на суде, Сократ уподобил самого себя слепню, оводу, который преследует и кусает тех, кто закоснел в самодовольстве и ленится душою. Он говорит в написанной Платоном «Апологии», обращаясь к афинским мужам: «Вам нелегко будет найти ещё такого человека, который…. приставлен к городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы её погоняли… Мне кажется, что бог послал меня городу как такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает . Поэтому Сократ, как подчёркивает Вл. Соловьёв, считает, что от каждого человека «требуется… отчётливая оценка всего данного, требуется рассуждение, критика, но не как искусство для искусства, а как искание правды, чтобы действительно найти её» .
Вот за этот беспокойный поиск, за философию как образ жизни, за неустанное требование слышать и слушать бога в своей душе афинская демократия приговорила Сократа к казни, осудив его мысли и действия как самое страшное преступление — богохульство.
Можно сказать, что Сократ и его современники кардинально разошлись в понимании того, что есть бог. Для Сократа бог — абсолютное добро, разум и истина, а для его современников реальными оставались ещё языческие божества, весьма далёкие от нравственного идеала. Поэтому в смерти Сократа уже предугадывается казнь Христа, ставшая своего рода духовной революцией в сознании человечества.
Так можно ли сравнить катастрофу суда и казни, пережитые Платоном, в которых ощущается мировой масштаб, с частным злодеянием, от которого пострадал Гамлет? Вл. Соловьёв высказывается здесь как теоретик искусства, который ищет в единичном — общее, а в частном случае — абсолютное. Какой бы значимой не была для человека его личная трагедия, сам принцип трагического требует «универсального столкновения объективных действующих в мире начал» . Подлинный трагизм, подчёркивает Соловьёв, состоит не в личном переживании, а «в том, что лучшая общественная среда во всём тогдашем человечестве — Афины — не могла перенести простого, голого принципа правды; что общественная жизнь оказалась несовместимою с личною совестью; что раскрылась бездна чистого, беспримесного зла и поглотила праведника; что для правды смерть оказалась единственным уделом, а жизнь и действительность отошли к злу и лжи» .
Пережив казнь духовного отца, Платон, так же, как и Гамлет, вынужден был дать ответ на вопрос «быть или не быть?». Но, поскольку драма Платона носила более универсальный характер, то и знаменитый вопрос был поставлен им универсально. Вл. Соловьёв справедиво замечает по этому поводу: «Когда Гамлет говорит своё “быть или не быть”, он разумеет — быть или не быть мне, Гамлету? — вопрос личный, и весь монолог наполнен личным элементом: ударами судьбы, сорными травами житейского сада, сновидениями за гробом. Для Платона вопрос был в том: быть или не быть правде на земле — вопрос универсальный… Вот истинное соответствие, настоящий синтез всеобщего и индивидуального, субъективного и объективного начал в драме, и этот синтез, никаким поэтом не придуманный, произошёл в действительной истории» .
Пафос слов Соловьёва, разумеется, объясняется тем, что для него, христианского мыслителя, Сократ является провозвестником грядущих идей, нового, а точнее, новозаветного понимания бога. У язычника-Сократа душа, по словам ранних отцов церкви, была христианка. Если исходить из этой точки зрения (вполне обоснованной), то молодой Платон видел казнь не просто друга и учителя, но и носителя нового духа, нового видения мира, которое Сократ оставил ему в наследство.
С Гамлетом всё иначе. По мнению Вл. Соловьёва, смерть отца заставляет его смотреть не в будущее, а в далёкое прошлое. Соловьёв сравнивает Гамлета с Орестом — настоящим язычником, над которым довлеет родовое начало. Хотя Гамлет родился в христианскую эпоху, идеями христинства он совершенно не затронут. Примат рода, языческое понятие об обязательной кровной мести, по мысли Соловьёва, делает фабулу пьесы трагической: «усомнись Гамлет в своей мнимой обязанности мстить и вспомни он хотя на минуту о своей действительной обязанности прощать врагов — трагедия бы пропала» . Но одной фабулы недостаточно. Сама по себе кровная месть может быть показана как торжество ветхозаветной справедливости: «око за око, зуб за зуб». Поэтому, пишет Соловьёв, Шекспиру понадобился особый протагонист — мыслитель, а не деятель, который, поставив себе задачу, не в силах выполнить её.
Таким образом, оказавшись в похожей, но не равнозначной ситуации, Платон и Гамлет, по Соловьёву, идут разными путями. Платон, следуя учению Сократа, должен оправдать бытие или найти такое, где добро действительно живёт и не побеждается злом, а Гамлет занят глубоко личным вопросом: способен ли он покарать конкретного злодея внутри собственной семьи?
Однако, будь Гамлет действительно ходячим анахронизмом в христианскую эпоху, вряд ли его трагедия так влияла бы на нас до сих пор. В сущности, Вл. Соловьёв, разумеется, прав, когда говорит, что трагедия Гамлета носит глубоко личный, субъективный характер. Но именно оттого она так универсальна: она касается самой сущности человека, причём независимо от его жизненных обстоятельств. Нам внятен голос Гамлета, даже если мы никогда не сталкивались с внутрисемейным преступлением на собственном опыте.
Л. С. Выготский, начиная свой анализ «Гамлета», говорит, что намерен рассмотреть шекспировскую трагедию как «миф, мистическую реальность» . Это очень глубокий подход, по существу похожий на подход Вл. Соловьёва к личности и жизненной драме Платона. Платон умер в возрасте около восьмидесяти лет — довольно большая по человеческим меркам жизнь, насыщенная многими событиями. Но его драма, драма его личности и учения — это мистической событие, которое и описывает Вл. Соловьёв в своём очерке. И Гамлет, и соловьёвский Платон переживают трагедию, происходящую вне времени и пространства, на грани двух реальностей, в глубине души. Это кризис мистический и в универсальном смысле слова религиозный, хотя не относится ни к одной религии.
Сущность мистического события, который переживают и Гамлет, и Платон, можно охарактеризовать коротко: поиск бога.
Вообще говоря, ни одному человеку, даже Сократу не известно, что есть бог, хотя Сократ (а через пять веков Христос) называет бога добрым. Однако личное дело каждого всегда заключается в поиске этого великого неизвестного. Бога ищут все, даже самые пустые и невежественные люди, даже те, кто, по Сократу, не знает добра.
В романе известного итальянского философа и писателя У. Эко «Маятник Фуко», посвящённом проблеме духовного тоталитаризма, есть интересный диалог о причинах террора.
«Человечество не выносит мысли, что наш мир получился случайно, по ошибке, потому что четыре обезумевших атома столкнулись в дождь на автостраде. Значит, надо объяснять мир через космический заговор, Бога, дьяволов и ангелов…
— Значит, люди подкладывают в поезда бомбы из-за того, что ищут Бога?
— Я считаю, да» .
Трагедия человека заключается в том, что он не находит искомого: или потому, что ищет не там, где нужно, или потому, что оказывается слеп. И Гамлет и Платон, по мысли Вл. Соловьёва, оказываются в равной степени неудачниками.
Противоречие между учением Сократа о доброй сущности бытия и его же казнью, которая представлялась безусловным злом, привело Платона к созданию целой системы объективного идеализма. Искать истинный смысл в реальной действительности оказалось делом невозможным, поскольку в ней оказался возможным смертный приговор Сократу. Отсюда, по мнению Соловьёва, неизбежным становился следующий вывод: «тот мир, в котором праведник должен умереть за правду, не есть настоящий подлинный мир. Существует другой мир, где правда живёт» . Поиски этого другого подлинного мира привели Платона к удвоению бытия, при котором истинно сущее бытие соотносится со своим неистинным и вечно становящимся отображением. Известно, что позднейшая социально-политическая теория Платона послужила своеобразным венцом для всей его, в целом, аполитичной конструкции. Его идеал государственного устройства должен был отразить в себе идеальное устройство космоса. Справедливый и благой закон неба, переведённый на язык государственного закона, по Платону, должен обеспечить единственную истинную норму человеческого общежития; и чем больше соответствует земная жизнь умопостигаемым идеям, тем совершеннее становится земная неподлинная и неблагая действительность.
Платоновская философия таким образом превращается в некий универсальный силлогизм. Как пишет Вл. Соловьёв, «большая посылка… содержалась в учении Сократа, меньшая посылка была дана его смертью; гений Платона вывел заключение» . Практическим результатом должна была стать социально-политическая теория, которая необходимо оградила бы жизнь праведника от несправедливости человеческих законов и установлений. Платон лучше, чем кто-либо, почувствовал необходимость в законе божественном, в законе, принципы которого не являются делом человеческих рук и человеческой воли. В отсутствие такого закона философ попытался разумом постичь основные принципы мироздания, в твёрдой уверенности, что простой перенос этих принципов в государственную жизнь автоматически обеспечит необходимое благополучие общества. Таким образом, исходным пунктом рассуждений Платона оказалась не апология Сократа, как человека и мыслителя, но апология закона, — того самого инструмента, с помощью которого был убит Сократ.
Такая исходная посылка, последовательно проведённая в рассуждении, привела к единственно возможному следствию. Платон провозгласил существование особых сущностей, значимость которых непреходяща и не может быть подвергнута сомнению. Всякий человек с этой точки зрения, хотя и обладающий душой, то есть подлинной и вечной сущностью, имеет значение только постольку, поскольку он приобщается к ней, причём по мере приобщения собственная человеческая уникальность как бы стирается, ибо идея — это наиболее общее, а всё частное является продуктом становления. Личность как таковая последовательно уничтожается в процессе восхождения к единому. Поэтому люди у Платона в конце концов оказываются игрушками высшей силы, а сущность идеального закона сводится к тому, чтобы максимально утвердить это положение.
Вот так платоновский объективный идеализм постиг, по слову А. Ф. Лосева «трагический конец» . «Приходится сказать, — пишет В.Соловьёв, — что жизненная трагедия Платона имела не только страшное начало, но и плачевный конец…. Из своего жизненного испытания он вышел хотя не без славы, но без победы.… В конце концов Платон, как Гамлет, оказался неудачником» . В отношении же Сократа Платон оказался даже больше, чем просто неудачником. Уничтожив всякое представление о человеческой свободе, и в первую очередь, о свободе мысли, Платон практически вынес второй смертный приговор учителю. Если учесть, что всё его философствование должно было свести на нет первый приговор, итог кажется издевательским.
Но если бы Платон искал подлинно доброе бытие, о котором говорил Сократ, не в общем законе, а в чём-то ином, каким бы могло быть его учение по мысли Вл. Соловьёва? Зерно истины содержится в знаменитом платоновском представлении об Эросе. Удел Эроса — рождение. Но если земной Эрос рождает телесное в телесном, но задача небесного — «рождение в красоте». Однако это рождение, говорит Вл. Соловьёв, не должно быть просто созданием новой красоты, то есть искусством. Платон вообще низко ставит искусство, считая его чем-то вторичным — имитацией нашей несовершенной действительности. Вл. Соловьёв, христианский мыслитель и автор «Чтений о богочеловечестве», считает, что под «рождением в красоте» должен был подразумеваться гораздо более важный смысл, чем появление новых идей или даже поиск истины. Ведь платоновский Эрос — это понтифик, строитель моста между двумя реальностями: совершенным миром идей и нашей земной юдолью. «В чём же другом может состоять его истинное и окончательное дело, — спрашивает Вл. Соловьёв, — как не в том, чтобы саму смертную природу сделать бессмертною?.... Задача… эротическая может состоять лишь в сообщении бессмертия той части нашей природы, которая сама по себе его не имеет» . Эта мысль, высказанная основоположником отечественной философии, является одной из важнейших для русского космизма. Воскрешение, полное воссоединение располовиненного на вечную душу и бренное тело человека — вот истинная задача Эроса, который по самой природе своей именно действует и рождает, а не занимается умственными спекуляциями. В идее воскрешения, в оправдании плоти, в указании на идею богочеловека Соловьёв усматривает истинную предназначение философии Платона — предназначение, которому величайший метафизик человечества не смог соответствовать.
Вместо этого Платон наметил границы античной философии и обнажил её главный нерв — представление о космосе как о венце творения, за пределами которого нет ничего, а если и есть, то это неважно для человеческой мысли. «В платонизме софийно только чувственно-телесное» , замечает в Очерках античного символизма» А. Ф. Лосев. Отсутствие идеи личности, ясного представления о чистой интеллегенции духа, свойственное всей античности, предопределило неудачу философа. «Что созерцает Платон на вершине своего умозрения? Кто его там встречает? С кем он там ведёт свой умный разговор? Никто его там не встречает. . «Немощь и падение “божественного” Платона важны потому, — писал Вл. Соловьёв, — что резко подчёркивают и поясняют невозможность для человека исполнить своё назначение, т.е. стать действительным сверхчеловеком, одною силою ума, гения и нравственной воли, — поясняют необходимость настоящего существенного богочеловека» .
Но если мистическая жизнь соловьёвского Платона завершается неудачей и крахом, можно ли сказать то же самое о Гамлете?
Тогда как Платон, по слову Соловьёва, имел своей «большей посылкой» оптимистическое по сути учение Сократа, Гамлет такой опоры не имеет. Он остаётся один на один с реальностью, у которой нет доброго смысла или же Гамлет не видит его. Призрак отца является ему из бездны преисподней, овеяный всеми её ужасами:
…Когда б не тайна
Моей темницы, я бы мог поведать
Такую повесть, что малейший звук
Тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей,
Глаза, как звёзды, вырвал из орбит,
Разъял твои заплётшиеся кудри
И каждый волос водрузил стоймя,
Как иглы на взъярённом дикобразе .
Сократ, духовный отец Платона, не боится смерти, поскольку не считает её злом; но Гамлет не может сказать того же. У него есть основания ощущать «страх чего-то после смерти». Дурно пахнущий череп Йорика обессмысливает всю жизнь бедного шута.
Здесь, возможно, таится главная точка расхождения Гамлета с Платоном, Шекспира с Вл. Соловьёвым. Для Платона между временным и вечным стоит строитель моста Эрос, который в христианской мысли Соловьёва принимает вид богочеловека-Спасителя. Но для Гамлета между бытием здесь и бытием там не стоит никого: ни Сократа с его убеждённостью в добром смысле бытия, ни даже воскресшего Христа. Шекспировская трагедия производит такое жуткое и завораживающее впечатление потому, что в ней мы оказываемся тет-а-тет с бездной, и никакой образ человеческой или божественной любви не заслоняет от нас чёрную дыру, которую древние именовали роком, фатумом.
Древнегреческий миф о сотворении мира говорит о том, что титан Кронос пожирал своих детей, чтобы никто из них не смог в будущем восстать против него. Гамлет, вглядываясь в инобытие, видит не мир идей из Платоновского «Тимея», и даже не Дантов ад, но бездонную утробу, которая однажды родила из себя мир и в любой момент готова поглотить его обратно с бесчувственным безразличием. Возможно, потому он так восхищается Фортинбрасом, что тот способен энергично действовать, не смущаясь видимым бессмыслием действий. Фортинбрас, если сказать словом Достоевского, любит жизнь больше её смысла. Мыслитель Гамлет так не может, хотя чувствует, что любовь Фортинбраса правильна.
Гамлет — это само воплощение идеи человеческой личности, проявление той интеллигенции чистого духа, которой нет в античности. Но эта личность одинока, изолирована, атомарна, в чём и состоит её трагедия. Она не связана более ни с чем в мире; она антагонистична и по отношению к физическому бытию, и по отношению к иррациональному инобытию.
«Распалась связь времён». Для Гамлета вообще не существует Эроса-понтифика, способного соединять миры и самого человека, его тело и душу. Все мосты разрушены, точнее, их словно бы никогда и не было. Поэтому чувства Гамлета разрушительны для него самого и дорогой его сердцу девушки. Платон в «Пире» рассказывает миф об андрогинах — древних людях, которых боги разрезали пополам, чтобы могучее человеческое племя не забралось на небо и не свергло их. Гамлет и Офелия, согласно этому мифу, две половинки единого целого, никогда не встретятся. В этом состоит злосчастье Офелии, именно это доводит её до безумия. В шеспировской трагедии нет Эроса — ни телесного, ни небесного, ему некого и нечего рождать. Что может сделать потерявшаяся половина некогда единого целого? «Уйди в монастырь, — говорит ей Гамлет, — к чему тебе плодить грешников?» .
В книге «Шекспир и его критик Брандес» Лев Шестов рассматривает Гамлета как человека вялого и слабого, своего рода кабинетного предпозитивиста, не способного быть, а способного лишь созерцать. Гамлет, утверждает Л. Шестов, пытается истолковать жизнь с точки зрения смерти, и поэтому череп Йорика выступает для него символом высшего смысла, а точнее, бессмыслицы. До любви ли тут? Однако, рассуждая так, Л. Шестов, хотя он и является религиозным экзистенциалистом, совершенно не поднимает тему вины Гамлета перед собой и другими, перед Богом и миром. Да и при чём тут, казалось бы, вина? Однако по большому счёту, шекспировская трагедия о ней, о метафизической вине, о первородном грехе, если импользовать религиозное понятие. Гамлет смотрит на мир не с точки зрения смерти, а с точки зрения ада: ведь Призрак, призвавший его к действию, вышел именно оттуда. Если Данте, спустившись в Ад, впоследствии по воле Бога и Беатриче поднимется в Чистилище и Рай, то над шекспировским Гамлетом довлеет Пандемониум: страшное место, откуда на минуту вырвался дух его отца, но куда он обязан вернуться. Это придаёт всему мирозданию совершенно иную ориентацию в метафизическом пространстве по сравнению со средневековым универсумом. Дух отца взывает о мести, но и сам отец грешник, он виновен в том, что умер нераскаянным. Похотливая мать виновна в преступной любви, предатель-дядя виновен в убийстве, да и сам Гамлет виноват кругом. Он говорит Офелии: «…я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать не родила меня на свет; я очень горд, мстителен, честолюбив; к моим услугам столько прегрешений, что мне не хватает мыслей, чтобы о них подумать, воображения, чтобы придать им облик, и времени, чтобы их совершить» .
Пессимистическая философия Гамлета в этой точке как будто сближается с более поздним пессимистичным волютаризмом А. Шопенгауэра, который видел в мире порождение бессмысленной воли – бесцельного по своей сути порыва, беспричинного, но бесконечного жизненного устремления. «Каждая ступень объективации воли оспаривает у другой материю, пространство, время» . В одушевлённых и тем более в разумных существах мировая воля приобретает характер абсолютного зла, становясь вереницей самоедства, пищевой цепочкой. «Воля к жизни, — пишет А. Шопенгауэр, — повсюду пожирает самоё себя и в разных видах служит своей собственной пищей, и наконец, род человеческий в своей победе над всеми другими видит в природе фабрикат для своего потребления: но и этот род…. с ужасающей ясностью проявляет в самом себе ту же борьбу, то же самораздвоение воли, и становится homo homini lupus» . Поэтому «мы сами в своём существе причастны ко злу и очень тесно связаны с ним, почему наши дела, совершаемые по закону и предписаниям, т. е. по мотивам, никогда и не могут удовлетворить справедливости» .
Исходя из такого понимания мира, А. Шопенгауэр особенно подчёркивает глубокую идею, заложенную в христианский догмат о грехопадении. Фактически, к нему, к этому догмату, у Шопенгауэра сводится сущность трагического в искусстве. «Так видим мы в трагедии, — пишет он, — что её благороднейшие герои, после долгой борьбы и страданий, навсегда отрекаются от своих целей…. — все они умирают, просветлённые страданием, т. е. после того, как в них уже умерла воля к жизни» . И приходит к выводу: «Истинный смысл трагедии заключается в…. глубоком воззрении: то, что искупает герой, — это не его личные грехи, а первородный грех, т. е. вина самого существования» . В подтверждение Шопенгауэр цитирует драму Кальдерона «Жизнь есть сон», где принц Сехисмундо, жалуясь на свою участь, произносит:
Тягчайшее из преступлений —
Родиться в мире .
Над Гамлетом, как над Сехисмундо, тоже довлеет эта вина: всякий человек виноват уже тем, что родился, потому что всякий человек рождается грешником. Идея эта, однако, абсолютно далека от Платона, потому что ему, как язычнику, совершенно чужда концепция первородного греха. Но для него имела бы смысл идея предопределения — фатума, который господствует надо всем античным космосом. В одном из последних своих диалогов, в «Законах», Платон проводит мысль об абсолютной несамостоятельности человека — марионетки в руках высших сил. «Человек… — это какая-то выдуманная игрушка бога», заявляет Афинянин и тут же добавляет: «по существу это стало наилучшим его назначением» .
Вл. Соловьёв, мифологизируя жизнь Платона, говорит о финальной катастрофе философа. Ведь Сократ, его умертвлённый учитель, утверждал даже на суде, что слышит в душе голос Бога и советуется с ним. Но Платон, скорбящий об учителе, остался глух к этим речам. В «Тимее» грандиозная и, в общем, оптимистичная картина подлинного бытия включает богов, но не является бытием единого Творца. Это космос. который, может быть, и звучит, как музыка, но никого не слушает и ни с кем не разговаривает. В нём нет Бога-Отца, чьё внимание постоянно приковано к детям. Однажды, говоря о «Братьях Карамазовых» Достоевского, Ю. Айхенвальд заметил, что одно из открытий гениального русского романиста залючается в том, что «Бог — это великий собеседник»: «есть в мире Существо, у которого есть для всех время и внимание» . К этому Существу, по мысли Вл. Соловьёва, Сократ направлял мысль своих учеников, но Платон, автор великих диалогов, так и не смог вступить в этот, единственно нужный, по мысли русского философа, диалог. Вместо этого жизненный опыт привёл его назад к античному богу-фатуму, безличностному року.
А что же Гамлет, который, в отличие от Платона, отягощён чувством вины и поэтому естественно мог бы искать помощи? Шекспировская трагедия полна монологов Гамлета, но принц Датский ни о чём не спрашивает Бога, ни о чём не просит его, не ведёт с ним споров и даже не проклинает его в отчаянии. Он так далёк от него, словно ему давно уже нечего поведать «великому собеседнику». Он знает о преисподней, поскольку из неё приходит Призрак; он знает о дьявольских ловушках, поскольку сам устраивает мышеловку; он знает о первородном грехе, поскольку видит грешника и в себе и в других. Перед дуэлью с Лаэртом он говорит о неслучайности всего в мире: «и в гибели воробья есть особый промысел». Но в этих равнодушных словах: «если теперь, так, значит, не потом; если не потом, так, значит, теперь; если не теперь, то всё равно когда-нибудь» не чувствуется веры в Провидение. Скорее, в них звучит мужество стоика. Жизнь полна бед, к ним нужно быть готовым, вот и всё. Гамлет стоит перед миром, в котором открылась бездна хаоса, один; его не поддерживает вера ни в нравственный закон, ни в благого Творца, ни в добрый смысл мироздания. Он готов не только умирать, но и убивать, но для него убийство — не месть и не восстановление справедливости, это только орудие достичь некой цели здесь и сейчас. А истинная цель, его главная задача — заговорить бездну, и он знает: это ему не по силам.
«Слова, слова, слова» — говорит Гамлет о книгах и расхожей человеческой мудрости. Но он, вероятно, подписался бы под утверждением Афинянина из платоновских «Законах» о том, что люди — всего лишь куклы в руках богов.
Так неужели Гамлет действительно, по слову Вл. Соловьёва, языческий Орест, которого преследуют Эринии, а не христианин, почти наш современник? Почему, если трагедия настолько архаична, она остаётся настолько злободневной для нас? Неужели мы, спустя два тысячелетия после Пришествия Христа, всё ещё чувствуем поступь древнего языческого рока?
Но является ли этот Гамлетовский рок таким уж древним?
На самом деле Вл. Соловьёв очень точно сравнивает Гамлета с Орестом, только это аналогия не свойств, а отношений. Трагедия Ореста происходит в переломную эпоху, когда происходит отказ от родового начала в пользу социума, патерналистского государства. Гамлет переживает свою трагедию в другую эпоху, когда средневековый человек, бывший раньше частью крестьянской общины, воинской дружины, ремесленного цеха и в глобальном смысле Христова стада, вдруг теряет всё и остаётся один на один с собой, с собственной атомизированной личностью. Гамлет, как и Орест, оказывается в новой реальности, где патерналистское начало теряет силу. Добрый пастырь или хотя бы благородный провожатый-язычник исчезают в предрассветном сумерке новой антропоцентрической эпохи. Бог развоплощается, становясь материальной природой Бруно или спинозовской объективной необходимостью. Гамлет оказывается, в некотором смысле в положении бедного Мармеладова — в положении, когда «некуда пойти». Поэтому Гамлет не ищет «доброго смысла бытия» — он давно его утратил, даже раньше, чем явился Призрак. Никто не указывает ему путь, никакой Эрос или Беатриче не строят для него моста через бездну.
Если использовать сравнение Вл. Соловьёва, Гамлет — это новый Орест или даже, скорее, изверившийся Платон, потерявший надежду и на Сократово добро и на средневековый универсум, построенный на простодушной вере в чудесное событие воскрешения богочеловека.
В этом новом мире Гамлет ищет себя и тем самым ищет бога, преодолевая деизм и атеизм позднейшего времени.
Нашёл ли он его? Гамлет пребывает в постоянном смятении чувств, в хаосе мысле и слов, а Бог, как говорит Библия, — тишина. Может быть, этой тишины Гамлет достигает только в последнюю минуту пьесы, в момент смерти. Однако об этом мы можем только догадываться.
3. Заключение
Сопоставление Платона и Гамлета, сделанное Вл. Соловьёвым, показывает теоцетрическое понимание смысла бытия, которое вообще характерно для русской философии. Мыслитель, рассуждающий строго логически-рационально, вероятно, вообще не стал бы сопоставлять биографию античного философа и сюжет шекспировской трагедии. Однако Вл. Соловьёв, исходя из интуитивно-жизненного (по слову А. Ф. Лосева) понимания Платона, воспринял сам факт его философии как мистическое событие, родственное мистерии Гамлета. Эта с одной стороны неожиданная, а с другой стороны, вполне оправданная аналогия позволила показать не просто двух трагических персонажей, но человека вообще на переломе эпох. В мистерии самой истории и Платон, и Гамлет ведут поиск богочеловека, хотя ни тот, ни другой не употребляют этого слова.