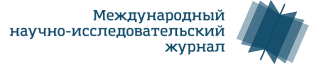БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ МОТИВОВ ХРИСТИАНСТВА И БУДДИЗМА В РОМАНЕ И. А. БУНИНА «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»
БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ МОТИВОВ ХРИСТИАНСТВА И БУДДИЗМА В РОМАНЕ И. А. БУНИНА «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»
Аннотация
В статье рассматриваются противоречие исходных архетипов христианства и буддизма в творчестве Ивана Алексеевича Бунина, который осуществлен на материале его во многом автобиографического романа «Жизнь Арсеньева». Показано, что учение Будды для Алексея Арсеньева как главного героя романа – это не только некое увлечение экзотической для русского человека религией, но и один из способов самоидентификации себя в мире. Анализ использования архетипов буддизма в романе «Жизнь Арсеньева» позволяет не только глубже понять внутреннюю суть, истоки и скрытые смыслы искусства Бунина, но и более точно интерпретировать философско-мировоззренческие предпочтения автора и тот жизненный социокультурный контекст, который прямо или косвенно определяет характер, мысли и поведение его персонажей.
1. Введение
В истории русской культуры Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) является одной из самых сложных и многогранных личностей. Отсюда актуальность исследования историко-культурного контекста искусства писателя, позволяющего учесть все богатство идейно-эстетических влияний на его сложное литературное творчество. Для понимания исходных детерминант, определивших мировоззренческое отношение Бунина к действительности, наиболее важным представляется анализ романа «Жизнь Арсеньева», над которым писатель работал многие годы, стараясь в художественной форме отобразить не только своеобразие своего жизненного пути, но и показать, как через усвоение социального опыта бытия происходит становление личности. Очевидной трудностью восприятия романа является чрезвычайно насыщенная религией, искусством, философией и идеологией атмосфера духовной жизни как самих героев, так и всего русского общества второй половины XIX века.
2. Методы и принципы исследования
В статье используется метод реконструкции религиозного и историко-культурного контекста и жизни русского общества второй половины XIX века, многие аспекты которого отражены в творческом наследии Бунина, что позволит лучше понять особенности художественного изображения исходных архетипов христианства и буддизма в его романе «Жизнь Арсеньева». Чтобы более аргументировано показать историко-культурный контекст, обусловивший эволюцию отношения Бунина к религии, мы используем биографический метод, позволяющий рассмотреть личную биографию писателя в качестве одного из определяющих факторов направления его творческого пути. Безусловно, анализ основных этапов жизненного и творческого пути Бунина позволит уточнить и более детально рассмотреть его религиозные взгляды, которые были неразрывно связаны с общей духовной «атмосферой» бытия русского общества в один из ключевых периодов предреволюционного развития России.
3. Основные результаты
Говоря о впечатлениях своего детства, Бунин отмечал, что жизнь в деревенской, хотя и дворянской усадьбе, была довольно-таки бедна событиями, а потому в его сознании, как и многих детей его возраста, самой генетикой предрасположенных к сказочно-мифологическому восприятию мира, реальность зачастую заменялась поэтическими вымыслами. Представления о существовании сверхприродного мира человеческой культуры входили в сознание будущего писателя с первыми прочитанными сказками и «самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. «В некотором царстве, в неведомом государстве, за тридевять земель... За горами, за долами, за синими морями...» . Все это вселяло в детскую душу романтические мечты о дальних странах, стремление к чему-то неизвестному и волнующе опасному.
Важно отметить, что существенным фактором общественной и частной жизни того времени была роль церкви, поэтому юные годы Ивана Бунина в значительной степени были наполнены религиозными переживаниями, возникновение которых обусловливалось прежде всего православным укладом бытия русского народа. Вспоминая самые ранние мироощущения, писатель рассказывал, что ребенком любил лежать на траве, «глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно свое», и тогда в душе появлялось невыразимо восхитительное ощущение божественности мира и более всего хотелось оказаться на белоснежном «облаке и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире!» . Так, на поэтическое восприятие природных явлений вполне органично накладывались мотивы библейской мифологии и христианских вероисповедальных поучений.
Вместе с тем прямым указанием на наличие в тексте скрытых смыслов выступает появление в самом начале повествования мотивов религиозной индуистской мифологии. Уже на второй странице романа автор неожиданно заявляет, что роду Арсеньевых еще древнейшими пращурами заповедано блюсти «учение «о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни», переходящего от смертных родителей к смертным чадам их – жизнью бессмертной, «непрерывной», веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был «осквернен», то есть прерван этот «путь», и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возрастать их родство, близость с ним, единым Отцом всего сущего [курсив наш – А.П.]» .
Следует сказать, что бог огня Агни, являясь главным из земных богов ведийской мифологии, играет роль посредника между людьми и богами. В упанишадах и ряде более поздних индуистских концепций Агни отождествляется с всеобъемлющим началом, которое подобно свету пронизывает все мироздание . Отличительным признаком индуистской религиозной мифологии (веданты, джайнизма, буддизма) выступает также концепция «сансары» – круговорота жизни путем перерождений души из одного телесного существования в другое по закону «кармы» (воздаяния) и «нирваны» (освобождения души от колеса перерождений), постулаты которых творчески использует Бунин.
Так, в романе возникает историософское противоречие, когда по воле автора в размышлениях героя появляются буддистские мотивы, принципиально чуждые христианскому вероучению, которое испокон веков является традиционно-нормативным для воспитания юношества в русских дворянских семьях. И поскольку понятно, что Алеша Арсеньев в детском возрасте в принципе не мог выражать свои религиозные взгляды в понятиях и терминах индуизма, то возникает проблема адекватности истолкования художественного текста писателя, содержащего столь важные для понимания контексты. Все это обязывает предельно внимательно относиться не только ко всем без исключения деталям повествования, но и к тем интерпретационным версиям, которые находятся как на поверхности, так и скрыты в метафизическом пространстве подтекста.
Прямым подтверждением наличия в романе неявных смыслов выступает то, что наряду с христианско-православной тематикой повествования, целый ряд сюжетов содержит буддистские мотивы мировосприятия главного героя, которому постоянно кажется, что он все происходящее уже пережил, стоит только вспомнить смутные ощущения некогда виденного, знакомого и врожденного душе. Так ни жаворонок, ни сурок, живущие своей природно-беспечной жизнью, ничему не дивятся и ни о чем не спрашивают, приводит пример Бунин, поскольку «не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространств, ни бега времени». Тогда как у Алексея Арсеньева уже с момента появления на свет было острое, пронизывающее все его существо врожденное чувство сопричастности историческому течению бытия: «А я уже и тогда знал все это» . Затем на эту родовую прапамять по мере взросления накладываются ощущения сегодняшнего бытия ребенка: «Детство стало понемногу связывать меня с жизнью, – теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события» . А далее следует типично буддистский мотив реинкарнации – привыкания души к новой телесной оболочке, когда автор от имени героя, вспоминающего свои переживания, сообщает: «Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства» .
Еще одним примером буддистских мотивов в романе является сюжет первого столкновения Арсеньева со смертью, когда один из дворовых работников трагически погибает, на всем скаку вместе с лошадью сорвавшись в Провал. Неожиданно для себя Алексей вновь осознает, что ему уже откуда-то известны эти страшные, хотя и «совершенно для меня новые слова? Значит, я их уже знал когда-то?». Оказывается, приходит к выводу юный герой, есть люди которые уже «с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни). <…> Вот к подобным людям принадлежу и я»
.Теперь становится более понятной дальнейшая логика развития событий в повествовании, когда у юного Арсеньева, вновь столкнувшегося со смертью теперь уже младшей сестры, возникает чрезмерно экзальтированное влечение к поиску путей избавления от гибели. Примечательнее всего здесь изображение того смятения чувств Алексея, столь внезапно открывшего, что в мире есть смерть, которое явно напоминает буддистское сказание о царевиче Сиддхартхе Гаутаме, решающего от духовного потрясения при столкновении с похоронной процессией порвать с миром и в поисках спасения уйти в «бездомность». Правда, бунинский герой не бежит тайно из дома как индийский царевич. Зато он, твердо решив духовно переродиться, «вступил еще в один новый… дивный мир: стал жадно, без конца читать копеечные жития святых и мучеников». И весь этот болезненный восторг, как повествует автор, все эти «полубезумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями… о киевских пещерах, где почиют сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов» продлились для Алексея всю долгую зиму
.Отметим, что обоснованность привлечения буддизма для интерпретации религиозной экзальтации юного Арсеньева подтверждается еще одним совершенно неожиданным сюжетным поворотом. Оказывается, примеряя на себя подвижническую жизнь христианских святых и мучеников, наш герой, как пишет автор, «жил только внутренним созерцаньем этих картин и образов [курсив наш – А.П.]» . Таким образом, отчетливо видно, как на традиционно евангельский сюжет повествователь наслаивает типично буддистские образы. Ведь если христиане спасаются соборно, в соработничестве с Богом и даже святые затворники молятся не столько за себя, сколько за братьев во Христе и за мир, то для буддизма характерен именно индивидуализм, т. е. единоличное спасение путем погружения в духовную нирвану – внутреннее созерцание, на путь которого, по Бунину, становится Арсеньев.
Буддистские мотивы присутствуют и в описании первой тяжелой болезни героя, ставшей для него «как бы странствием в некие потусторонние пределы». От имени ребенка автор рассказывает о специфических признаках болезни, которые более всего напоминают классическую нирвану: чудодейственную перемену всех чувств, «неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, не исключая самых дорогих сердцу, любить; а затем – целые дни и ночи как бы несуществования [курсив наш – А.П.], иногда только прерываемого снами, виденьями, чаще всего безобразными, нелепо-сложными, как бы сосредоточившими в себе всю телесную грубость мира, которая, в распаде, в яростном борении с самой собой, гибнет среди чего-то горячечного, пламенного (несомненно, послужившего для человеческих представлений об адских муках)»
.Правда, как ни пытался Алексей погрузиться в этот сказочно-святой мир, его религиозный экстаз с приближением весны прошел как-то само-собой, а осенью он стал гимназистом. Так в жизни Арсеньева совершилась еще одна важнейшая перемена и начал действовать новый контекст – гимназическая действительность. Художественно ярко и с глубоким психологизмом в романе изображается путь развития личности юного гимназиста, в сознании которого в процессе духовной рефлексии на детское миропонимание под влиянием новых интересов и потребностей наслаиваются новые идеалы и принципы, цели, мотивы и убеждения. По мере взросления Алексея его поэтическое восприятие мира ищет форму реализации уже не только в детских мечтах. Повествуя о развитии духовного мира своего героя в гимназические годы, Бунин особо выделяет тот момент, когда у Арсеньева рождается желание воплотить свое мироощущение в художественном творчестве. «Я же, думая о монастыре, вспоминаю то болезненно-восторженное время, когда я постился, молился, хотел стать святым, а кроме того, почему-то томлюсь мыслью о его старине, о том, что когда-то его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары: я в этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в поэтической выдумке» . Так, в дополнение к столь волнительным для детского возраста религиозным чувствам приходят новые переживания, главенствующее место среди которых, с одной стороны, занимает патриотизм и чувство гордости за Россию, за ее величественную древность и державную мощь, а с другой – желание выразить свои чувства в художественной форме. Тем не менее, несмотря на неизбывное чувство любви Бунина к покинутой из-за революции Родине, несмотря на непреходящее уважение к отеческому православию, что красной нитью проходит через все его искусство, буддистские мотивы, как показывает анализ романа «Жизнь Арсеньева», занимают значительное место в творческом наследии писателя.
По всей видимости, с философией буддизма Бунин обстоятельно знакомится в 1911 году во время путешествия на Цейлон и с тех пор учение Будды становится не только неизменным предметом его интереса, но и органичной частью его мировоззрения и творчества. Об этом можно судить по замыслу Бунина написать драму о жизни Будды, о чем он говорит в интервью для журнала «Рампа и жизнь» (1912. № 44): «Часто мне хотелось написать что-нибудь для сцены. Влекла меня и самая форма. Ведь в драме, в ее стремительном, сильном, сжатом диалоге так многое можно сказать в немногих словах. <…> Сколько заманчивого, например, в мысли о трагедии из жизни Будды» .
Очевидно, что интерпретации произведений Бунина, в том числе романа «Жизнь Арсеньева», подлежит не только то, что хотел сказать автор, но и то, что в его тексте «хотело сказаться» и о чем повествователь как бы невольно проговаривается, ибо «понять означает, прежде всего, понять само дело и лишь во вторую очередь – выделить и понять чужое мнение в качестве такового» . Здесь возникает вопрос как о достоверности памяти, так и о неизбежных наслоениях на смысловые слои текста позднейших мировоззренческих интерпретаций. Поэтому задачей, которую ставит перед собой исследователь творчества Бунина, является не одна лишь реконструкция авторского замысла, но и выявление новых смыслов. Ведь «подлинный смысл текста или художественного произведения никогда не может быть исчерпан полностью; приближение к нему – бесконечный процесс», который открывает «все новые источники понимания, выявляющие неожиданные смысловые связи» .
Своеобразие Бунина – в определенной неразгаданности истоков и сути его таланта, сочетающего высокую художественность с философской глубиной постижения мира и человека. В творчестве писателя органично сочетается все многообразие методологических подходов к объяснению действительности, которые постоянно обогащаются по мере развития его личности. Задача исследователя – понять внутреннюю суть, истоки и скрытые смыслы искусства Бунина, чтобы в каждом конкретном произведении правильно интерпретировать философско-мировоззренческие предпочтения автора и тот социокультурный контекст, что прямо или косвенно определяет характер, мысли и действия его персонажей. При этом не следует забывать, что любое произведение выступает по отношению к читателю лишь как точка зрения автора, который представляет свою интерпретацию реальности в той или иной художественной форме, через которую бытие «является» и «сказывается». Подлинный смысл бунинского текста зачастую превосходит авторское понимание, так как всякая речь лишь обозначает «наличные слововещи», которые «она в меру своих значений артикулирует» . И поскольку никакой индивидуальный опыт не может охватить мир полностью, то и никакая частная интерпретация не может быть завершенным истолкованием художественного текста.
Несомненно, что Бунина в учении Будды привлекают прежде всего философско-мировоззренческие аспекты взгляда на бытие природы, общества и человека, собственно же религиозной обрядово-культовой практики буддизма писатель, как известно, никогда не придерживался. Тогда как вдохновенно поэтическому описанию торжественного великолепия обрядов православного вероисповедания в «Жизни Арсеньева» посвящен целый ряд красочных эпизодов. Не случайно при посещении сельской церкви у юного Алексея возникает сладостное «чувство тайной гордости: мы впереди всех, мы так хорошо, умело и чинно молимся, священник после обедни подает нам целовать пахнущий медью крест прежде всех, кланяется подобострастно...» .
Судя по всему, атеистические и нигилистические поветрия того времени не затронули сколько-нибудь значительно семейство Буниных, в котором было принято по-патриархальному истово обращаться к помощи Всевышнего при случавшихся время от времени природных катаклизмах, что позволяло детям, как это описано в одной из сцен романа «Жизнь Арсеньева», в полной мере чувствовать «божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности! Был потом мрак, огонь, ураган, обломный ливень с трескучим градом, все и всюду металось, трепетало, казалось гибнущим, в доме у нас закрыли и завесили окна, зажгли «страстную» восковую свечу перед черными иконами в старых серебряных ризах, крестились и повторяли: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» . Так, в красочных деталях Бунин рисует атмосферу бытия семьи Арсеньевых, пропитанную чувствами почитания седой древности отеческого вероисповедания.
Вполне понятно, что главный герой «Жизни Арсеньева» не является точной копией молодого Бунина, поскольку образ Алексея романе – это более высокая, эстетически и философски осмысленная ступень художественного обобщения и типизации автобиографического материала. Очевидно, что художник творчески подходил к описанию своих детских и юношеских лет, вдыхая жизнь не только в героев повествования, но и одновременно творя жизнь собственную, видя в ней не менее главный предмет искусства. И хотя Бунин решительно отказывался считать Арсеньева своим автобиографическим героем, тем не менее, он всегда стремился подчеркнуть, что первые детские впечатления – самые прочные и весь дальнейший философско-мировоззренческий опыт жизни как бы наслаивается на них. Именно таким примером позднейших наслоений и являются явственно выраженные мотивы буддизма при описании детства Алексея Арсеньева.
4. Обсуждение
Библиография исследований самых разных аспектов творческого наследия И. А. Бунина поистине огромна. Разумеется, вопрос о религиозно-нравственных взглядах автора «Жизни Арсеньева» в том или ином аспекте затрагивали многие представители отечественной философской и художественно-эстетической мысли. Здесь как современники, первые откликнувшиеся на выход романа, – Г. Адамович , К. Зайцев , В. Ходасевич , так и позднейшее поколение исследователей – Зинковская С. В. , Лю Ю. , Уланов М. С. .
Следует отметить, что для анализа творчества Бунина важную роль имеет учет философско-религиозного контекста тех нюансов текста, смысл и значение которых определяется творческой установкой автора. Биограф писателя Л. Ф. Зуров рассказывал, что при работе с бунинским архивом он обнаружил ряд фрагментарных записей и заметок, в частности, рукопись «Книга моей жизни» (1921), среди которых особо значим целый ряд философских размышлений писателя о буддизме. При их публикации в 1966 году Зуров писал: «Все убеждены, что И. А. Бунин начал писать «Жизнь Арсеньева» в Грассе в 1927 году, но первые наброски романа, которые я, разбирая архив Ивана Алексеевича, недавно обнаружил, были написаны в Париже в 1921 году» . Правда, в 1973 году А. К. Бабореко, один из ведущих буниноведов России, счел ошибочным мнение Зурова, «отнесшего на основании найденных им рукописей начало работы над этим романом к 1921 г.» . Однако в свете дополнительных фактов последнее заключение представляется неверным и прежде всего потому, что сделано на основании неполной информации, обладая которой Бабореко вряд ли стал отрицать важность обозначенных Буниным еще в 1921 году тех методологических подходов, которые затем найдут свою творческую реализацию в романе «Жизнь Арсеньева».
Дело в том, в Ю. Мальцев книге «Иван Бунин» (1994) приводит ранее не публиковавшиеся фрагменты вышеупомянутой Зуровым рукописи «Книга моей жизни», где Бунин прямо и недвусмысленно говорит о существенном влиянии буддизма на свое мировосприятие и мироощущение. Особенно выразительно об этом свидетельствуют те пропущенные места, которые касаются философских аспектов буддизма в зуровской публикации 1966 года, перепечатанной затем в серийном издании «Литературное наследство» (1973): «Рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той непостижимой для меня тьме, в которой я был от зачатия до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, пращурах, ибо ведь они тоже я…» . Далее пропущенный фрагмент: «…только в несколько иной форме, где однако многое повторилось почти до тождественности. Будда говорил: «Я помню себя еще козленком». И я сам испытал однажды, – как раз в стране Будды, в индийских тропиках, – особенно острый ужас одного из подобных воспоминаний, ужас ощущения, что я уже был среди этого райского тепла и райских богатств» . Из пропущенного отрывка рукописи с необходимостью следует вывод, что буддизм для Бунина выступает не просто неким увлечением экзотической для русского человека религией, а вполне осознанным философско-мировоззренческим методом самоиндификации себя в мире: «Не раз чувствовал я себя не только прежним собою, – ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром; в свой срок кто-то должен и будет чувствовать себя – мною…» . Далее пропущенный фрагмент: «…индийская карма совсем не мудрствование, а физиология» .
Примечательно, что Бунин использует буддистский мотив реинкарнации также и при поэтически красочном изображении своих ощущений природной прелести бытия, которые, казалось бы, находятся вне влияния какой-либо религиозно-философской концепции. Так, вспоминая о природном мире своего детства, о полях и проселках, запахе трав и бескрайней синеве неба, Бунин пишет: «В такие минуты не раз думал я: каждый цвет, каждый запах, каждый миг того, чем я жил здесь некогда, оставляли, отпечатлевали свой несказанно таинственный след…» . Далее пропущенный фрагмент: «…как бы на каких-то несметных, бесконечно малых, сокровеннейших пластинках моего Я – и вот некоторые их них вдруг ожили, проявились. <…> «Ничто не гибнет, только видоизменяется». Но может быть есть нечто, что не подлежит мне даже и видоизменению, не подвергается ему не только в течение моего земного бытия, но и даже в течение тысячелетий, никогда? Увеличив число этих отпечатков, я должен передать их еще кому-то, как передано великое множество их всеми моими предками – мне» .
Еще одним подтверждением влияния философии буддизма на мировоззрение и творчество писателя выступают дневниковые заметки Галины Кузнецовой, которая 29 сентября 1932 года отмечала, что в период работы над продолжением «Жизни Арсеньева» Бунин был серьезно увлечен буддизмом: «И. А. читал мне переводы обращенья Будды к монахам, восхищаясь высокой прелестью и общим строем этой речи. <…> Рассказал, как был в Кеннэди и видел в священной библиотеке пальмовые дощечки с начертанными на них круглыми знаками – буддийские книги» . Более того, продолжает Кузнецова, через несколько дней Бунин сказал, что буддизм уже давно привлекает его своей философией бытия, возможностью вечного перерождения души человека и вытекавшим отсюда отношения людей к миру. «После обеда разговаривали в кабинете о Будде, учение которого И. А. читал мне перед тем, – пишет в дневнике 2 октября 1932 г. Кузнецова. – От Будды перешли к жизни вообще и к тому, нужно ли вообще жить и из каких существ состоит человек. И.А. говорил, что дивное уже в том, что человек знает <…> и что мысли эти в нем давно» .
Таким образом, совершенно очевидно, что буддистские мотивы в художественном повествовании о жизни Алексея Арсеньева имеют у писателя не случайный, а глубоко закономерный характер.
5. Заключение
Подводя итог, следует отметить, что Бунин, безусловно, не только довольно хорошо знал философско-мировоззренческую сущность учения Будды и осознанно употреблял его специфическую терминологию («карма», «цепь перерождений», «вселение души в новую обитель», «жизнь как страдание»), но и творчески использовал мотивы буддизма при создании «Жизни Арсеньева». Поэтому столь важен анализ философско-религиозного контекста романа, над которым писатель работал в зрелом возрасте и в самом расцвете таланта, когда уже во многом определилось характерное своеобразие его творческого метода. Художественное бытие героев и многочисленных персонажей «Жизни Арсеньева» имеет то методологическое значение, что автор с позиций уже сложившегося миропонимания ретроспективно оценивает течение дней своей юности, осознанно включая в них мотивы буддизма.
При всей несомненности факта, что Бунин мыслит как художник, выражая свое понимание мира в образах искусства, за бытием его персонажей и героев зачастую скрываются «метафизические» смыслы, повествование его многопланово и насыщено множеством различных философских, религиозных, эстетических, этических и т. п. концептов. Но в этом-то и заключается тайна художественности искусства, в явлениях которого не только современники автора обнаруживают многозначность смыслов, но и – если это, действительно, великое искусство – в каждую новую историческую эпоху читатели обнаруживают и вечные сюжеты жизни, и новые смыслы, скрытые в одном и том же тексте.