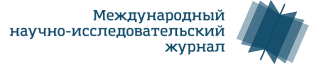ИСТОРИОСОФСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИГРОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В РОМАНАХ МАРКА АЛДАНОВА
Макрушина И.В.
Доцент, канд. филол. наук, кафедра русской и зарубежной литературы, Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО, «Башкирский государственный университет»
ИСТОРИОСОФСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИГРОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В РОМАНАХ МАРКА АЛДАНОВА
Аннотация
В статье выявляется соприродность писателю основных положений концепции игрового генезиса культуры голландского культуролога Й. Хейзинги, автора книги «Homo ludens» (1938). Осмысляя события и явления общественного бытия на протяжении нескольких столетий, М. Алданов сосредоточен на вторичной «лудизации» социальных феноменов, когда игра, сохранив свои внешние существенные свойства, усваивает негативную семантику. Статья адресована филологам и всем интересующимся вопросами развития литературы русского зарубежья.
Ключевые слова: философия истории, игра, театр, маскарад.
Key words: philosophy of the history, game, theatre, masquerade.
Историческому прозаику Марку Алданову принадлежит видное место в культурной жизни русского Зарубежья первой волны. Романы писателя о прошлом и современности, явившиеся объектом рассмотрения в данной работе (тетралогия «Мыслитель», трилогия «Ключ» - «Бегство» - «Пещера», книги «Истоки», «Самоубийство», «Начало конца»), составляют самую значимую часть его обширного наследия. Они связаны общностью идейно-концептуальных построений и художественных решений и образуют так называемый «историософский матароман», охватывающий почти два столетия русской и европейской истории (XVIII–XX вв.). Созданию этого цикла Алданов посвятил всю свою жизнь. Книги писателя культурологичны. Речь идет о сложном избирательном заимствовании М. Алдановым разных философских и культурных традиций (литературно-художественная форма способна включать в себя проблематику, связанную с философией, социологией, политологией, разными аспектами гуманитарного знания, что доказывает целокупность и универсальность культуры как единого ценностно-смыслового поля).
В статье выявляется соприродность М. Алданову основных положений концепции игрового генезиса культуры голландского культуролога Й. Хейзинги, автора книги «Homo ludens» (1938), который утверждал, что культура возникла и развивалась в форме игры. Игровой элемент подлинной культуры высок, благороден, прекрасен. Игра – «добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по … абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели обыденная жизнь» [7, 40].
Опираясь на хейзинговскую концепцию, Ю. Левада в своей работе «Игровые структуры в системах социального действия» выделяет два основных типа социальных игр: представление, в котором содержанием игрового действия становится исполнение некой роли, ролевое перевоплощение; и состязание, ориентированное на достижение некоего «…конечного состояния успеха, победы над соперником или обстоятельствами» [6, 282] (ср. у Хейзинги: «функция игры… может быть легко выведена из двух существенных аспектов, в которых она проявляется … игра есть борьба за что-нибудь или же представление чего-нибудь» [7, 32]). Согласно Й. Хейзинге, основными репрезентациями игры в соответствии с означенными типами являются спорт и театр. Хейзинговская игровая теория происхождения культуры позволяет сделать следующий вывод: игровое начало пронизывает все сферы человеческого бытия до самого основания, поскольку культура в высокоразвитых своих формах не может обходиться без игрового компонента.
В романах М. Алданова человеческая жизнь, осмысленная в различных ее проявлениях, неизбежно приобретает игровое измерение, ибо принадлежать социуму – значит играть, участвовать же в историческом действе – играть вдвойне. По мнению театрального режиссера Н. Евреинова, заложенный в людях «…биологический инстинкт театральности» допускает восприятие в качестве зрелища, то есть театра, любого явления действительности, вплоть до уличной драки или публичной казни [Цит. по соч.: 1, 68]. В романе «Девятое Термидора» появляются сцены городских площадных казней (Людовика XVI, Шарлотты Корде, жирондистов, Робеспьера). Публичное гильотинирование составляло главное развлечение парижан: «< в театрах > шли длинные в пять актов санкюлотиды, …< на площадях > – сенсационные казни…» [3 – 1, 254] (выделено автором). В романе Алданова жирондисты, отправляясь в последний путь, вдохновенно поют «Марсельезу». Герои сознают, что им выпало играть на подмостках всемирной истории, пусть даже это подмостки эшафота. Унося с собой славу и доблесть французской революции, «…связанные люди прямо с колесниц переступали на лестницу возвышения» [3 – 1, 218], ведущую к трону исторического бессмертия. Действо театрально, если оно осуществляется в виде представления, непременным соучастником которого является зритель. Спектакль на городской площади доступен самой широкой публике, театральная казнь жирондистов собирает большую толпу: «Разносчик продает горячие пирожки… Неужели у них хватит бесстыдства есть… Разве можно есть при виде э т о г о? Вздор!.. Все можно!..»; «Вот отец высоко поднял ребенка на руках… Он хочет показать э т о сыну… Ребенок смеется… Смеется и отец… У него ласковое, доброе лицо…»; «Милый старичок… Он посещает все казни… Он театрал…» [3 – 1, 216-217] (выделено автором).
Вовлеченность в игровой процесс определяет состояние сознания и поведения героев Алданова. Вошедший в сферу игры приобретает особое отношение к жизни (нравственно-этический аспект миропонимания перестает что-либо значить). В политической сфере деятельная энергия одержимого человека или группы лиц, наделенных властью, может осуществляться в разрушительной форме. Жирондисты – жертвы кровавого якобинского террора. Однако, осмысленная в категориях сценической игры, политика перестает устрашать. Писатель заостряет внимание на трагической неестественности со стороны зрителей игрового отношения к насильственной смерти, становящейся привычным «горячим» зрелищем, утоляющим низменные инстинкты толпы. Искажающее воздействие игры распространяется «по обе стороны рампы». Историческая «роль» жирондистов, актерствующих перед лицом вечности, растворяет в себе их человеческое естество! Фанатичное служение политической идее снимает трагедию индивидуальной жизни, обреченной безвременно угаснуть. Взгляд Алданова на происходящее разоблачает с нравственно-психологической позиции выморочную театральность зловещего французского действа.
Политическая история предстает в романах писателя и как вечный агональный поединок состязающихся сторон: «…ничто так не влечет людей, <как власть>, …вы …хотите бороться с этим повальным запоем!.. запрещаете политическую борьбу, то есть рассчитываете закрыть людям доступ к самой увлекательной из игр» (герой романа «Бегство» Браун в беседе с Федосьевым) [3 – 3, 218-219].
Всякая игра стремится к своему завершению, в поединке соревнующихся на исторической арене рано или поздно выделяется победитель. В романе «Самоубийство» Плеханов, «политическая примадонна» в длиннополом наряде, скрестив руки, цитирует с трибуны Дидро, Ламеттри, Герцена. Весь воплощенное тщеславие, хлестко бросает чеканные восклицания Троцкий. Многие «метили в Наполеоны». Настоящим оратором оказался Ленин: «…достиг речами своей цели» [3 – 6, 56]. Революционный триумф Ленина – тщательно продуманная спортивная «шахматная комбинация»: «За … стулом <вождя> стояли Троцкий … и Зиновьев … какие люциферовы чувства они должны испытывать к нежно любимому Ильичу: «сел, сел-таки на стул! А мы тут стой за стулом, и сейчас, и в завтрашнем журнальчике… и до конца времен… А ведь если б в таком-то году, на таком-то съезде, голосовать не так, а иначе, да на такую-то брошюру ответить вот так, то ведь не он, а я, пожалуй, сидел бы «Давыдычем» на стуле…» (герой романа «Пещера» Никонов в письме Мусе Клервилль комментирует историческую сцену на открытии III Интернационала) [3 – 4, 219].
По мнению Й. Хейзинги, спорт и театр как прообразы социальных игр не равноправны. Состязание реализуется благодаря ролевой игре (сначала необходимо выйти на сцену в роли политического спортсмена, а потом начать соревноваться). Алданов не случайно сравнивает опытного оратора с тореадором, который «…после долгого блестящего боя нацеливается для последнего удара быку» («Пещера») [3 – 4, 184]. В политической корриде театрализованное действо соединяется со спортивным поединком. Политическое состязание требует максимального напряжения человеческой энергии. Участниками «спортивного» поединка владеет «волнение борьбы», с которой связывается острое чувство жизни. Стремление превзойти соперника, утвердив над ним свое верховенство, продиктовано соображениями личного или группового (партийного) престижа. Спортивный инстинкт при этом преобладает над политическими убеждениями. В романе «Пещера» французский депутат Серизье «…не чувствует никакой любви к тому, что проповедует», как «…не чувствует и ненависти к тому, что обличает» [3 – 4, 268]. Крайней точки напряжение достигает не только в спортивном состязании, но и в азартной игре.
В своих романах М. Алданов создает концепцию политического человека «тройного сальто-мортале», для которого смысл существования в достижении высшего предела жизненного напряжения. Им владеют увлечение, задор, страсть. Азартная игра на исторической арене подчас оказывается самоцельной, завораживающей больше, чем результат. Люди «тройного сальто-мортале» от политики – трюкачи по натуре (как акробат цирка Карло в «Истоках», выполняющий смертельно опасный номер). Непомерно тщеславные, «люди сальто» способны на огромный риск, превыше всего в жизни они ставят карьеру, славу, престиж и достигают их любой ценой. Карло, совершая трюк, рискует только своей жизнью, трюкачество «сильных мира сего» обходится человечеству много дороже. Арены для таких «артистов» – огромные мировые пространства. Исполняя свой трюк, они манипулируют подчас сотнями тысяч человеческих жизней. Натура человека «тройного сальто-мортале», для которого важнее ставки атмосфера азартной игры, сказывается в Наполеоне, принесшем с собой в изгнанье на маленький остров Святая Елена огромный запас энергии, не растраченной в шестидесяти сражениях и в завоевании всемирной власти. Даже в предприятиях ссыльного императора угадывается натура человека, наделенного дьявольской энергией и страстью к риску: «…иногда он… катался по узкой опасной дороге… над крутыми обрывами пропастей и, приказывая шальному кучеру Аршамбо во всю прыть гнать тройку лошадей, доставлял себе иллюзию прежней игры жизнью и смертью» («Святая Елена, маленький остров») [3 – 2, 360]. Генерала Бонапарта, играющего в политику, в государственные занятия, в войну (словом, в историю), сравнивают со страшным снарядом, готовым разорваться над миром. Ради собственного престижа Наполеон способен устроить человечеству «невиданное кровопускание». Людей «тройного сальто-мортале» роднит одержимость манией величия, разрушительная активность в достижении поставленной цели, умение не помнить о ценности человеческой жизни.
В «Заговоре» метафора «мир-театр» обогащается мотивом маскарада. Заговор против императора Павла развивается на маскараде в холодном тумане Михайловского замка, ставшего зловещим символом той эпохи. Люди, играющие заговорщиков, скользят в розовых домино по ярко освещенным залам. В историческом маскараде участвуют граф Пален – военный губернатор и первый сановник империи; Талызин, командовавший Преображенским полком, Платон и Николай Зубовы, князь Яшвиль, барон Беннигсен. Роман изобилует использованием игровых эффектов. Любопытна сцена, в которой Пален и Николай Зубов заговорщически совещаются о том, как вырвать власть у безумного деспота. Их фигуры в костюмах «…освещены снизу, как у актеров от рампы», что делает этих людей громадного роста еще выше. Игровой площадкой, на которой разворачивается театрализованное действо, становятся внутренние помещения Михайловского замка. Мрачному спектаклю соответствует декорация, вызывающая тяжелое чувство: «Пахнуло сыростью. Солнце исчезло. В овальной зале горели свечи. В замке стоял густой туман» [3 – 2, 182]. Обособленный характер игры проявляется в таинственности. Заговорщики пользуются паролем: «граф Пален».
Органичным в поэтике «Заговора» является прием маски. По мысли И. Хейзинги, надевая маску, человек как бы попадает из обыденной жизни «…в иной мир, далекий от света дня, …в сферу игры» [7, 39] (в переодевании или надевании маски наглядно выражается инобытие игры). Устанавливаются правила игрового пространства, внутри которого теряют силу законы и обычаи мира повседневности. Герои Алданова под защитой маски расстаются с притворной личиной незакрытого лица, несущего на себе бремя жизненных условностей (приличия, этикета, морали и т.п.), раскрепощаются, обнаруживая свою подлинную сущность. Благодаря приему маски в романе создается особая игровая атмосфера, отвечающая духу крамольных, заговорных дел. Причастность заговору тождественна причастности маскараду. Любопытна сцена, в которой Пален, подобно злодею из слезной драмы, уговаривает великого князя Александра Павловича принять участие в заговоре против собственного отца. Правила игры «…обязательны для всех играющих и не подлежат сомнению. Играющий, который не подчиняется правилам или обходит их, есть нарушитель игры» [7, 36]. В отличие от Палена, который включен в игру, живет по ее законам («Хороши вы в домино, граф, совсем молодой человек. Очень вам идет») [3 – 2, 229], наследник престола, отлучившись с маскарада в свои покои, нарушил правила игры, которые обязательны для всех «маскированных», то есть включенных в заговор. Александр снял маску, изнемогая под гнетом мучительного выбора между сыновним долгом и преступной логикой самоувенчания. Алданов осмысляет извечную трагедию индивидуальной человеческой жизни, когда последующее звено в цепи поколений попирает предыдущее. Здесь этот конфликт осложнен борьбой за власть.
Заговор против царя развивается в атмосфере маскарада. По Хейзинге, всякая игра имеет завязку, течение, кульминацию и развязку. В романе кульминационным этапом игры заговорщиков становится акт цареубийства. Александр под натиском роковых обстоятельств невольно доверяет хладнокровному искусителю свои самые сокровенные мысли: «Мы будем молить государя об отречении, но надлежит, чтобы он чувствовал за нами и силу. И для того нужно согласие вашего высочества… – Я не должен вас слушать, но доносчиком, граф, я никогда не был… – Мы ночью явимся к императору …выберем день, когда в карауле будет войсковая часть, вполне преданная вашему высочеству… Вас так любят. – Я не даю согласия, граф. Не знаю, так ли меня и любят. Разве третий батальон Семеновского полка? – «Он очень сильный, этот малыш, – сказал себе Пален. – И его сведения точны…» Он низко наклонил голову» (как бы заручившись согласием) [3 – 2, 234-235] (выделено мною – И.М.). Нельзя выйти из игры, пока она не сыграна. Задача Палена вернуть наследника на маскарад, то есть заставить его надеть маску, которая делает незаметными внутренние колебания и нерешительность. Включенность в игру, подчинение ее правилам снимают моральную ответственность неигрового мировосприятия.
Таким образом, маска оказывается таинственно связанной с отцеубийством: «Я не даю согласия, граф, – еще раз твердо и отчетливо повторил Александр. Пален встал. – Что ж, а маскерад, ваше высочество? Не пора ли вернуться? – сказал он, как бы не расслышав последних слов великого князя» [3 – 2, 235]. Отказ наследника участвовать в заговоре не отменяет его страстного желания стать царем и не снимает необходимости подчиниться правилам разыгрываемого представления, что подтверждается фразой: «Не пора ли вернуться на маскарад?» Свершаясь на придворном маскараде, заговор против Павла I приобретает репутацию игры.
Внешний облик Павла контрастирует с наружностью Александра. В трактовке Алданова царь – страшный полусумасшедший человек с искривленным землисто-бледным лицом и выпученными глазами. Облечение венцом превращает его индивидуальную трагедию в общероссийскую. Напротив, в Александре Павловиче личная обаятельность, свойственная многим Романовым, достигает высшего предела. В изображении Алданова точеный породистый облик великого князя кажется художественным созданием. Портретное преимущество перед отцом как бы закрепляет неизбежность исторического торжества наследника. Пронзительна в романе сцена, в которой государь, исступленно глядя в упор на сына, произносит со странной насмешливой улыбкой: «Желаю вам, ваше высочество, исполнения всех ваших желаний» [3 – 2, 260].
Любая игра протекает внутри своего игрового пространства, некой выгороженной территории, где действуют свои правила. Игра «обособляется от обыденной жизни местом действия и продолжительностью» (Й. Хейзинга) [7, 21]. Вымышленный персонаж тетралогии, авантюрист, юный «ловец фортуны» Юлий Штааль, непосредственно участвующий в политическом предприятии, на себе ощущает включенность в некую «игровую ситуацию». Партнеров по заговору (игроков) объединяет чувство обособленности и отгороженности от норм и установлений серьезной (неигровой) жизни (изолированность составляет важный отличительный признак игры). Участники игры сознают свое исключительное положение («инобытие»). Заговорщиков у Алданова объединяет чувство, что они вместе делают нечто важное, вместе обособляются от остальных, выходят за рамки всеобщих норм жизни, поскольку на время игры стихийно устанавливается иной порядок, упраздняются привычные социальные различия между людьми. На тайной сходке заговорщиков Штааль фамильярно приветствует князя Яшвиля: «Кого я вижу?.. В другое время это восклицание ему самому показалось бы неуместным: он очень мало знал Яшвиля, который вдобавок был значительно старше его годами и чином» [3 – 2, 277] (выделено мною – И.М.). В ответ артиллерийский полковник очень крепко жмет юноше руку («в таком деле все равны»). Участников игры отличает особый эмоциональный настрой. Как указывает Х. Гадамер, «очарование игры, ее воздействие состоит именно в том, что игра захватывает играющих, овладевает ими» [4, 152]. Дух тех минут, когда заговорщики приближались к таинственным стенам Михайловского замка, связывается у Штааля с мучительно-волнующим, радостным чувством. Полнота и яркость переживаний даруют включенному в игру герою ощущение «непонятного наслаждения».
Пространственные перемещения персонажей у Алданова обусловлены сценарием игры, имеющей особое течение времени (внутри отгороженного игрового мирка время как бы останавливается). Штаалю запомнилась надпись на циферблате старинных вызолоченных часов, которые он видел в доме одного из заговорщиков: «Часы наблюдал, а Время не чуял». Герой «…соображал, что оставался < у Талызина > очень недолго, быть может, не более четверти часа. Но казалось ему, что был он там долгие часы…» [3 – 2, 280]; позднее никто «…не мог точно сказать, в котором часу был убит император … и …сколько времени заняло самое убийство…» [3 – 2, 291]. Реальность жизни-игры сопоставима со сном. Штааль, очнувшись от «…изменчивого, томительного сна», которым было все случившееся с ним и Россией, размышляет: «Он был во сне и на льду Невы перед тропинкой, шедшей к Петропавловской крепости, и у Талызина, слушая жгучую речь Палена, и у дверей спальной, в которой душили императора, и в долгие постыдные часы, последовавшие за ночью убийства…» [3 – 2, 311].
Алданов в своих романах показывает современные формы общественного устройства, опирающиеся на игровой принцип. Военное дело, суд, парламент, дипломатия, брак представляют собой некие отгороженные игровые площадки, на которых действуют особые правила.
Трансформацию продуктивной деятельности в игровую Ю. Левада обозначает с помощью термина «лудизация». На определенном витке своего развития культура заражается духом буржуазно-мещанской пошлости, нравственным релятивизмом и прагматизмом. В бытии современного общества игра предстает в переродившемся виде. В отличие от Хейзинги, рассматривающего в качестве фундамента культуры игру как таковую, то есть не имеющую моральной ориентации (игра не добродетельна и не греховна, не мудра и не глупа, не истинна и не ложна), Алданова интересуют не столько происхождение и содержание социальных феноменов, связанные с игрой в ее подлинном изначальном проявлении, сколько вторичная «лудизация» культурных форм, когда, сохранив свои внешние существенные свойства, игра усваивает негативную семантику; перестав быть благородной и прекрасной, становится ложной, фальшивой, жестокой, сообщая событиям и явлениям общественного бытия признаки деградации и вырождения.
Рассмотрим сцену суда над Альверой в романе Алданова «Начало конца». Альвера – умник-одиночка, не признающий над собой никаких моральных установлений, виновен в убийстве старика-француза, своего работодателя, для которого он переписывал бумаги (убил ради денег и чтобы доказать всем, что он способен совершить «идеальное убийство»). Молодой человек страдает наследственным сифилисом, который постепенно разрушает его мозг. Место, где свершается правосудие есть «освященное место», отгороженное от повседневной жизни (это своего рода магический круг, игровое пространство). Судьи, прежде чем приступить к отправлению правосудия, выходят за рамки обыденной жизни: облачаются в мантию или надевают парик, делающие их другими [7, 102]. В романе Алданова судебный процесс над Альверой оборачивается зловещей комедией. Пресыщенная полупьяная публика, жаждущая крови, разочарована преступником – так «…на боях быков неинтересного быка встречают свистом» [2 – 11, 45] – и потому тяготится представлением. Человека с помутившимся рассудком (Альверу) она презирает за то, что он вяло, недостоверно играет сумасшествие. Процесс суда являет собой дешевый, безобразный фарс, страшный и безжалостный по отношению к его жертве. Возбужденной толпе, чье поведение может быть определено как «пуерильное» («пуерилизм» – наивность, ребячество; термин Й.Хейзинги), не хватает оживления, зрелищности, грубых сенсаций, захватывающих инцидентов. По мысли писателя, все общественные институты в странах с демократической формой правления, прежде казавшиеся достижением цивилизации, постепенно деградировали, превратившись в костные, корыстные, равнодушные по отношению к человеку механизмы.
В романах М. Алданова о современности бесчисленны примеры дурной ребячливости человеческого духа, «добровольно жертвующего своей зрелостью» (Й. Хейзинга), что свидетельствует о деградации культурных форм и вырождении подлинной игры как фундамента культуры. В трилогии о русской революции писатель выводит революционеров и контрреволюционеров всех мастей, подверженных сплочению в группы с выраженной игровой направленностью. Внешними признаками игровой структуризации деятельности могут служить языковые и поведенческие клише: «Удивительно, как засела в душе у этих… людей… самая пышная военная терминология. У них все: бой, знамя, победа, дисциплина, тактика… Они и партию себе выбирают, как другие юноши полк: по звучности названия, по красоте идейного мундира…» (Из размышлений героя романа «Бегство» Федосьева) [3 – 3, 224]; «эти люди зачем-то нацепили на себя красные банты и смешно называли друг друга. Но ведь и военные в сущности поступали точно так же: банты, ордена, «товарищ», «Ваше превосходительство» – одинаково предназначались для того, чтобы выделить группу людей из человеческого рода (Клервилль в «Пещере» о делегатах Международной Рабочей конференции) [3 – 4, 135]. Революционеры пользуются лексикой, отвечающей таинству игрового обряда: «конспирация», «явка», «провал». У Алданова члены контрреволюционных групп, претендующих на серьезную репутацию, ведут себя по мерке отроческого или юношеского возраста: «…расплодилось слишком много заговоров, и все они детские… Проклятая романтика черных плащей!..» (Из разговора Федосьева с Брауном в «Бегстве») [3 – 3, 448].
Итак, категория игры в романах Алданова вбирает в себя различные проявления социального поведения человека. Писатель осмысляет историю с помощью двух типов общественных игр: представления и состязания. Сознательному профессиональному актерству состязающихся друг с другом политиков противостоит явленная на уровне поэтики романов театральность (маскарадность) истории, не сознаваемая персонажами, участвующими в событиях. Многие общественные институты, произошедшие из игры, и по сей день сохраняют игровую форму. По мысли Алданова, человечеству не дано существовать вне игры. Природа человека ориентирована на игру: «мир в глазах играющего героя чужд всякой окончательности и раскрыт веером неисчерпанных потенций бытия» [5, 16].
Осмысляя события и явления общественного бытия на протяжении двух последних столетий, Алданов делает неутешительные выводы. За игровым началом в поэтике романов писателя закреплена преимущественно негативная семантика. Игра – условна, иллюзорна, обманна, преходяща, суетна, жестока; она раскрепощает темные инстинкты человека: потребность в разрушительной активности, стремление доминировать над другими, жажду крови. В историческом деянии проявляется темная грань человеческого естества, раскрепощенная ситуацией «игрового инобытия». Серьезное (неигровое) измерение жизни опирается на тяжесть нравственной ответственности человека за все совершаемое на земле. По контрасту, существование, подчиненное законам игры, как показывает писатель в своих романах, легковесно и текуче, как сон, свободно от нравственных запретов (метафора «жизнь – игра» как вариация мотива «суеты сует»).
Таким образом, Алданов использует эстетический потенциал концепта «игры» в качестве приема, работающего на претворение его историософской концепции. Осмысленная в категориях игры, история подвергается профанации и развенчанию, утрачивая свой значительный и серьезный характер. Представляя главные роли на мировой сцене, исторические персонажи оказываются марионетками-статистами перед лицом вечности. Игра как таковая внеположена морали, ее этическое наполнение зависит от человека. Каждый из живущих на земле волен выбирать между добром и злом, мудростью и глупостью, истиной и ложью. Но мало кому удается превратить свою жизнь в бессознательную и прекрасную игру.
Литература
-
- А.Д. Авдеев. Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе. Ленинград - Москва: Искусство, 1959. – 251 с.
- М.А. Алданов. Начало конца // Октябрь. 1993. № 11.
- М.А. Алданов. Собр.соч.: В 6 т. Москва: Правда, 1991. Т. 1 – 6.
- Х.Г. Гадамер. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Москва: Прогресс, 1988. – 194 с.
- К.Г. Исупов. Игра в литературном творчестве и произведении: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Донецк, 1975. – 25 с.
- Ю.А. Левада. Игровые структуры в системах социального действия // Системные исследования. Методологические проблемы. Москва: Наука, 1984. – 438 с.
- Й. Хейзинга. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Москва: Прогресс, 1992. – 173 с.
Список литературы
А.Д. Авдеев. Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе. Ленинград - Москва: Искусство, 1959. – 251 с.
М.А. Алданов. Начало конца // Октябрь. 1993. № 11.
М.А. Алданов. Собр.соч.: В 6 т. Москва: Правда, 1991. Т. 1 – 6.
Х.Г. Гадамер. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Москва: Прогресс, 1988. – 194 с.
К.Г. Исупов. Игра в литературном творчестве и произведении: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Донецк, 1975. – 25 с.
Ю.А. Левада. Игровые структуры в системах социального действия // Системные исследования. Методологические проблемы. Москва: Наука, 1984. – 438 с.
Й. Хейзинга. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Москва: Прогресс, 1992. – 173 с.