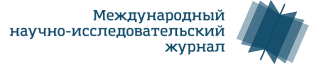ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАЧАЛО И ВЫМЫСЕЛ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ РОМАНЕ
Филь В.А.
Аспирант, Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАЧАЛО И ВЫМЫСЕЛ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ РОМАНЕ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема герменевтического анализа документального и фиктивного аспектов автобиографических романов и описана возможность привлечения методов психоаналитической герменевтики Альфреда Лоренцера и базовых принципов научной интерпретации художественного текста, предложенных Фридрихом Шлейермахером для описания процесса преобразования исторических фактов биографии писателя в художественный вымысел и выявления экзистенциальных коллизий, послуживших стимулом к такому преобразованию.
Ключевые слова: конкретный автор, психоаналитическая герменевтика, экзистенциальная коллизия.
Fill V.A.
Postgraduate student, Immanuel Kant Baltic Federal University
DOCUMENTARY BASE AND FICTION IN AUTOBIOGRAPHICAL NOVELS
Abstract
In the article the author considers the problem of hermeneutical analysis of documentary and fictional aspects of autobiographical novels and describes the possibility of attracting methods of psychoanalytic hermeneutics of Alfred Lorenzer and basic principles of the scientific interpretation of the literary text proposed by Friedrich Schleiermacher to describe the transformation of historical facts of the writer's biography into fiction and reveal existential conflicts which induce this transformation.
Keywords: particular author, psychoanalytic hermeneutics, existential conflict.
Для верного подхода к пониманию сущности автобиографического романа как литературного феномена, важно принимать во внимание ту политику, которой следовало литературоведение с момента публикации Роланом Бартом эссе о смерти конкретного автора в мире художественного произведения и необходимости определения магистральной функции каждого отдельного художественного текста либо как исключительно эстетического объекта, либо как инструмента воздействия на действительность [3, 384-391]. Здесь необходимо акцентировать внимание и на идее о действительности, определяемой в качестве своего рода отправной точки отсчёта любого современного литературоведческого изыскания в целом, и попытки понимания сущности автобиографического романа как некой жанровой формы, в частности. Ключевым моментом в таком частном исследовании является рефлексивная природа автобиографического текста, представляющего собой дескрипцию мнемонического переосмысления конкретного автора [8, 45-46], переоценку его личного биографического опыта с последовательным замещением одних воспоминаний другими. Этот процесс легко объясним с точки зрения субъективного понимания действительности, вслед за Спинозой, Лейбницом, Фихте и Шеллингом, как индивидуальной воспринимаемости, ощутимости, картины мира [7, 442‑444]. В этом случае можно говорит о том, что автобиографический роман представляет собой инструмент по качественному переосмыслению индивидуальной картины мира субъекта, этот роман создающего. Учитывая характер этого переосмысления, основанного на непрестанном замещении исторических биографических фактов субъективными реминисценциями, необходимо также с осторожностью относиться к феномену вымысла в рамках автобиографии как художественного текста, стараясь чётко определять его границы, или хоты бы приблизительно ощущать их наличие. Осторожность эта должна быть особенной в тех случаях, когда привычная для автобиографического повествования тождественность повествующей и повествуемой инстанции грамматически нарушается, и объясняется это различными экзистенциальными коллизиями. В качестве примера такого радикального грамматического дистанцирования повествующей инстанции от повествуемой можно привести автобиографические романы от третьего лица, которых в мировой литературной практике исключительно немного. На их примере легко проследить, как автобиографический роман синтезирует биографические факты с вымыслом, отражая одновременно две картины мира конкретного автора: исходную и конечную.
В этой связи хотелось бы поговорить о документальном и художественном началах в автобиографическом романе от третьего лица, их взаимодействии и соотношении. При этом важно осознавать, что речи о разграничении этих двух понятий быть не может, поскольку такой роман имеет дело не с документальным напрямую, не с исторической реальностью, а с реминисценцией по поводу этой реальности, т.е. с образом этой реальности, перепонимающего её, передающего на своём особом культурном диалекте. В таком случае может возникнуть вопрос, как можно в принципе выделять документальное в автобиографическом романе, где всё время приходится иметь дело с образами, реминисценциями, оценочным субъективным переосмыслением, и какой в этом смысл, какая от этого может быть научная польза? Документальное в случае с автобиографическим романом является основой сюжетного повествования, предоставляющей нам определённый набор исторических ситуаций, персоналий, действительно имевших место в биографии конкретного автора, оказавших на формирование его личности внешнее воздействие и из биографии конкретного автора переходящих в историю повествуемого персонажа. Определение места описанных в произведении элементов исторической действительности в общем потоке событий, когда либо происходивших в жизни конкретного автора и понимание причины, по которой именно эти события описываются, переосмысляются, перепонимаются, изменяются может помочь нам выяснить ту причину по которой автору понадобилась такая резкая, чёткая позиция вненаходимости грамматическая, нарративная – повествование от третьего лица, рассмотрение самого себя как отдельного персонажа, дифференциация собственных субличностей в отдельных персонажей, что нарушает привычный ритм экзистенции психики, заставляет её возвращаться и заново проходить уже пройденные ей этапы. Выделяя такие документальные элементы в рамках биографического повествования, мы имеем какие-то основания для диагностики первопричин такой несвойственной жанру нарративной деривации, для анализа, для понимания. Обращаясь к конкретному примеру, к роману Салмана Рушди «Джозеф Антон» [6], написанному в 2012 году и описывающему события нынешнего и конца прошлого столетия, мы имеем дело с историческим периодом хорошо нам известным, не сильно удалённым от нас, обладаем возможностью обращаться к огромному количеству документальных свидетельств и собственному эмпирическому опыту. Здесь у нас есть возможность проследить, отсмотреть, понять те культурные коды, которые формируют картину мира автора и которые легли в основу того культурного диалекта на котором общается с миром исторической действительности автор и на котором он передаёт нам свой роман. Такие необъятные возможности нам предоставлены также в меру медийности личности автора, биография которого запротоколирована в современных западных СМИ довольно подробно. Более того, с большим количеством публицистических статей, эссе и публичных выступлений Рушди мы можем в сборнике «Шаг за черту» [5] который представляет нам стройную, пусть и не доскональную, хронологическую последовательность наиболее крупных социально и культурно значимых событий в жизни Салмана Рушди за период, описываемый в его романе «Джозеф Антон». Даже на этапе сравнения одного только этого документального биографического свидетельства с автобиографическим романом, созданным по мотивам, на основе запечатлённых в этом свидетельстве событий, мы сталкиваемся с первыми несоответствиями, поскольку далеко не все упомянутые в «Шаге за черту» события находят своё отражение в романе «Джозеф Антон». Важно при работе с подобными текстами придерживаться той диалогичности, который описан ещё у Дильтея, из которого следует, что не только мы опрашиваем текст, но и являемся текстом опрашиваемыми. Это значит, что, задавая вопросы тексту, мы можем найти ответы только в самом этом тексте, и только будучи этим текстом опрашиваемы, предоставляем ему свои знания. Только в результате подобного диалога может быть открыта истина, может быть достигнуто адекватное понимание и текст может быть грамотно интерпретирован только согласно такой схеме. И поскольку автобиографический роман как интимный жанр, носящий исповедальный, рефлексивный характер подразумевает психологическую интерпретацию, превалирующую над структурной, грамматической, о чём говорил ещё Шлейермахер в своей работе «Герменевтика и Критика» [2, 13-19], то ключ к пониманию нарративного своеобразия его следует искать именно во взаимодействии документального и художественного начал, характер которого, согласно идеям герменевтической психологии Лоренцера, может привести нас к глубинным первопричинам, мотивам, личностным предпосылкам, оказавшим влияние на структуру романа. Из этого следует, что путь верной интерпретации такого текста должен иметь обратный порядок, согласно которому понимающий должен пройти от лексического выражения к настроению, и затем к собственно переживанию, и следуя принципу круга, понимая один эпизод рассказывания за другим, наращивая понимаемые смыслы, прийти к пониманию целого. Эти элементы в риторике Лоренцера уместно называть сценами, т.е. фрагментами текста действие в которых имеет пространственно-временное ограничение. В качестве примера можно привести первую сцену Салмана Рушди, где согласно предложенному Лоренцером алгоритму понимания [4], первое, на что мы должны обратить внимание – это языковое выражение. «Afterwards, when the world was exploding around him and the lethal blackbirds were massing on the climbing frame in the school playground, he felt annoyed with himself for forgetting the name of the BBC reporter, a woman, who had told him that his old life was over and a new, darker existence was about to begin. She had called him at home on his private line without explaining how she got the number. ‘How does it feel,’ she asked him, ‘to know that you have just been sentenced to death by the Ayatollah Khomeini?’ It was a sunny Tuesday in London but the question shut out the light. This is what he said, without really knowing what he was saying: I’m a dead man. He wondered how many days he had left to live and thought the answer was probably a single-digit number. He put down the telephone and ran down the stairs from his workroom at the top of the narrow Islington terraced house where he lived. The living-room windows had wooden shutters and, absurdly, he closed and barred them. Then he locked the front door» [1, 3] – «Потом, когда вокруг него взрывался мир, когда гибельные черные дрозды облепляли каркас для лазанья на школьном дворе, он досадовал на себя, что забыл фамилию репортерши Би-би-си, которая сообщила ему, что старая его жизнь кончена и впереди новое, мрачное существование. Она позвонила ему домой и не стала объяснять, кто ей дал телефонный номер. «Каково вам, — спросила она, — узнать, что аятолла Хомейни только что приговорил вас к смерти?» Лондон, вторник, солнце — но вопрос заставил утренний свет померкнуть. Он ответил, не понимая толком, чтó говорит: «Приятного мало». А подумалось: я мертвец. Он задался вопросом, сколько еще дней ему отпущено, и ответом, казалось, должно было послужить однозначное число. Он положил трубку и бросился из своего кабинета на первый этаж узкого дома в Излингтоне, стоявшего впритык к таким же узким домам. Окна гостиной закрывались деревянными ставнями, и он, хоть в этом не было никакого смысла, запахнул их и запер. Потом запер и входную дверь» [6, 11]. Прежде всего в данном отрывке обращает на себя внимание идея темноты: blackbirds, darker existence, shut out the light. Закрытые персонажем окна дополняют картину. Созвучие слов exploding и explaining говорит о том, что на данном этапе повествователь возлагает ответственность за разрушение своей действительности на репортёра, сообщающего дурные известия. Это не значит ни что девушка действительно ответственна, ни что ответственность несёт кто-то другой, это означает, что по мнению повествователя, ответственность должна лежать на ком-то другом, совершенно с ним не тождественным. Это одна из первых попыток замещения в романе, когда ответственность за логику повествуемых событий, их причинно-следственную связь, снимается с повествователя и возлагается на нетождественные ему повествуемые инстанции. Репортёр дозвонилась до повествуемого персонажа через его личную телефонную линию (his private line). Употребление лексемы, указывающей на личное пространство указывает на то, что повествование описывает действительность повествуемого персонажа, а не фактический мир, т.е. здесь идёт речь скорее о вторжении во внутренний мир. Интерпретируемый в процессе диалога представляет интерпретатору в своей исповеди собственные субъективные переживания, и рассказ этот в большей степени сформирован процессами, происходящими в подсознании говорящего, нежели задуманными идеями и функциями. Так и автобиографический роман, имея чётко обозначенную функцию рефлексии и припоминания, отражает в своей структуре специфику подсознательного автора. Важно, место в этой методики вымысла, фиктивного мира, поскольку во время беседы пациента и психоаналитика, степень правдивости высказываний интерпретируемого, т.е. соответствие их объективной исторической реальности не имеет большого значения. Ключевое значение имеет здесь действительность в её исконном философском субъективном понимании.
Здесь для интерпретатора важны структура, категория нарратива, лексические, стилистические и интонационные особенности, невербализованная информация, тот индивидуальный культурный дискурс, в котором находится интерпретируемый. При попытке верного истолкования автобиографического романа, в котором наблюдаются некоторые нарративные аберрации, мы так же изначально уделяем внимание архитектонике произведения – соотношение фактического и фиктивного интересует нас лишь в тот момент, когда мы пытаемся уяснить для себя, какие события в процессе припоминания претерпели художественное изменение, какие были замещены и почему. Автобиографический роман в контексте теории Лоренцера можно рассматривать как поиск, имитацию данного герменевтического диалога, требующего интерпретации, а значит, роман такого свойства является попыткой осознать внутриличностные конфликты автора, т.е. вывести их сначала в сферу сознательного, а затем имитировать их выход за пределы рефлексирующей личности.
Литература
- Rushdie S. Joseph Anton: A Memoir // Vintage Books. London – 636 p.
- Schleiermacher, Friedrich. Hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Neue Testament. Berlin: G. Reimer, 1838 – 418 s.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1994 – 616 с.
- Лоренцер. А. Истинность психоаналитического познания. Историко-материалистический набросок – Ижевск: ERGO, 2013 – 324 с.
- Рушди С. Шаг за черту: [сборник эссе] / Салман Рушди; [пер. с англ.]. – Спб.: Амфора. ТИД Амфора, 2010 – 526 с.
- Рушди, С. Джозеф Антон / Салман Рушди; пер. с англ. Л. Мотылёва, Д. Карельского. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 859 с.
- Философская Энциклопедия. Т. 1: А – ДИДРО — М.: Советская энциклопедия, 1960 - 504 с.
- Шмид В. Нарратология. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Языки славянской культуры, 2008 – 304 с.
References
- Rushdie S. Joseph Anton: A Memoir // Vintage Books. London – 636 p.
- Schleiermacher, Friedrich. Hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Neue Testament. Berlin: G. Reimer, 1838 – 418 s.
- Bart R. Izbrannye raboty: Semiotika. Pojetika. - М., 1994 – 616 p.
- Lorenzer. A. Istinnost' psihoanaliticheskogo poznanija. Istoriko-materialisticheskij nabrosok – Izhevsk: ERGO, 2013 – 324 p.
- Rushdi S. Shag za chertu: [sbornik jesse] / Salman Rushdi; [per. s angl.]. – Spb.: Amfora. TID Amfora, 2010 – 526 p.
- Rushdi, S. Dzhozef Anton / Salman Rushdi; per. s angl. L. Motyljova, D. Karel'skogo. – M.: Astrel: CORPUS, 2012. – 859 p.
- Filosofskaja Jenciklopedija. T. 1: A – DIDRO — M.: Sovetskaja jenciklopedija, 1960 - 504 p.
- Shmid V. Narratologija. – 2-e izd., ispr. I dop. – M.: Jazyki slavjanskoj kul'tury, 2008 – 304 p.