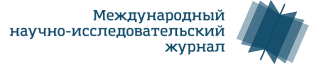«ЗЕРКАЛО ОСЕТИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»: О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ ГЕОРГИЯ ЦАГОЛОВА НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВЕКОВ
«ЗЕРКАЛО ОСЕТИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»: О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ ГЕОРГИЯ ЦАГОЛОВА НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВЕКОВ
Аннотация
В статье рассматривается жанровое и идейно-тематическое содержание художественной прозы Георгия Михайловича Цаголова (1871–1939), одного из зачинателей осетинской национальной русскоязычной литературы. Дается общая творческая характеристика писателя, определяются его жанровые приоритеты, предлагается обзор и анализ его художественных прозаических текстов с выявлением наиболее типичных стилистических и сюжетно-композиционных приемов, образов и характеров его произведений, их преобладающего революционного пафоса и элементов «пролетарского» реализма. Прослеживается тенденция к неуклонному расширению хронотопа прозы Г.М. Цаголова и формированию крупных эпических форм, представляющему симптоматичный процесс для осетинской литературы рубежа XIX и XX веков – на этапе ее становления.
1. Введение
О творческом облике Г.М. Цаголова (1871–1939), и по происхождению, и по творческой идеологии принадлежащем к числу разночинских писателей и просветителей, в осетинском литературоведении нет противоречивых суждений, и данное рассмотрение также не предполагает полемической заостренности; в целом мы согласны со всеми исследователями, специально или опосредованно касавшимися творчества Г.М. Цаголова и подчеркивавшими, наряду с его просветительским, социально-критическим и революционно-демократическим содержанием, его позднейший скептицизм в отношении диктатуры пролетариата и перспектив складывавшихся социалистических методов хозяйствования. «Цаголов не был последовательным борцом, – писал Х.Н. Ардасенов. – (…) революционность его порой выливалась в мелкобуржуазный реформизм и анархизм» . «...писателю не удалось… стать марксистом, правильно понять самую передовую идеологию эпохи и перейти на позиции революционного пролетариата, – констатировал С.Ш. Габараев. – Цаголов… не понял характера и сущности… советской власти» . «Нотки пессимизма, колебания, бесперспективности» отмечал в творчестве Цаголова М.С. Тотоев, полагая, что писатель «не поднялся до понимания значения классовой борьбы» . В результате, как писал Г.В. Баев, Цаголов «не вписался... в новую советскую действительность», «был удален из сферы социализма» .
Оценки вполне объективные, но, как нам представляется, в них не хватает строго филологических наблюдений. В значительной мере этот недостаток исследований советского периода преодолен и восполнен в работах последних десятилетий, в частности, З.Н. Суменовой , , Ф.Н. Цораевой , З.Г. Борукаевой , и И.С. Хугаева однако остается желательным более четкий акцент на новаторском характере, знаковых лексических сдвигах, расширении эпического хронотопа и других свойствах прозы Цаголова, которые явно соотносятся с ведущим пафосом эпохи, с нарастанием революционного процесса, и которые позволяют применить к нему известную формулу – «зеркало [осетинской] революции». Цаголов, конечно, не Толстой; но и Осетия – не Россия в строгом смысле слова; и в виду «сомнений» и «шатаний» Цаголова правомерность такой квалификации, как и в случае с противоречивым Толстым, не только не снижается, но возрастает, поскольку революцию нельзя отделять от ее одиозных издержек и последствий, тем более, что сам Цаголов, которого после революции не печатали, в своих мемуарах подробно и искренне объяснял свой скепсис, и его рассуждения о возможности деградации политической системы оказались, как отмечает З.Н. Суменова, «провидческими» .
Здесь мы намерены подвергнуть рассмотрению художественную прозу Цаголова, относящуюся к рубежу XIX и XX веков, как содержащую яркие элементы политизации и пролетаризации литературного сознания в Осетии и выразившее одну из магистральных линий развития осетинской русскоязычной литературы на этапе ее становления.
2. Основные результаты исследования и их обсуждение
Уже первые статьи и очерки Цаголова, вызванные к жизни «неугасимым огнем желания говорить о зле и неправде жизни, бороться против них» , представляет собой замечательную страницу в истории общественной мысли Осетии. Проблематика таких публикаций, как «Дигорские отголоски» (1894), «В горах Дигории» (1898) «Влияние религиозных обрядов на благосостояние осетин» (1897), «Еще об алдарах» (1898) «Она бежала» (1898) и др., соответствует кругу программных вопросов общественно-политической, хозяйственной и культурной жизни Осетии на рубеже XIX и XX веков: Цаголов пишет о земельном вопросе, о классовом расслоении горского крестьянства, среди которого появляются, с одной стороны, нувориши (Цаголов называет их уже «кулаками» ), с другой – совершенно нищие, безземельные горцы, о реакционном содержании патриархальных обычаев и предрассудков, о плачевном состоянии просвещения, различных социальных служб и т.д.
При этом в рамках строго публицистического жанра автор обнаруживает художественные наклонности, тяготение к пластике и изобразительности. Прежде всего, ему характерна сатирическая тенденция, которая со временем, отделившись от публицистического формата, находит самостоятельное воплощение в жанре классического фельетона. «Археолог» («Северный Кавказ», 1897, № 92) – яркий образец такого текста: «Господин С. был страстный любитель археологии, т.е. не самой археологии, в которой он ровным счетом ничего не смыслил, а тех интересных и драгоценных вещиц, с которыми имеет дело археология… Много могильников разорил он в Чечне, Осетии и других местах. Но замечательнее всего, что он сумел поставить дело (...) на научную почву… Его знала даже гр. Уварова… Квартира его представляла видный музей...» . К жанру фельетона на национальном материале можно относить и «Поминки» («Новое обозрение», 1895, № 3821), где мы находим остроумные иллюстрации на тему вредных обычаев. Джинджол умирает от голода, в то время как у него есть бык и корова; «...их трогать нельзя, – объясняет его жена Дареджан священнику, приглашенному для исповеди, – на что его похороним, когда он умрет?» .
К рассматриваемому периоду относится ряд прозаических сочинений, которые можно квалифицировать как миниатюры, этюды или уже собственно рассказы. Колоритный национальный материал, социальная проблематика и глубокий лиризм составляют их поэтику. «Зимней ночью» («Казбек», 1896, № 116) рисует картину страшной гибели в горной пропасти осетина-бедняка, единственным свидетелем которой был его ослик, навьюченный вязанкой дров; «Под Новый год» («Казбек», 1899, № 1) повторяет этот мотив с той разницей, что здесь гибнет одинокой смертью «первый вор во всем ущелье» Хамиц, поспешающий к своей голодной семье с десятью рублями, вырученными за лошадь, которую он «стянул у старого Кубади». «Но что ж из этого? – оправдывается перед собой Хамиц, – Не он же один этим делом занимается? Да и как им не заниматься, когда с голоду приходится издыхать?..» . Бесславная и безвестная смерть в горах, под вой голодных волков: мотив симпатичен автору как вполне типическая картина вне зависимости от героя; что и честный горец, и вор погибают одной смертью, опосредованно создает впечатление безысходности осетинской жизни.
Образ вора трансформируется в рассказе «Али-бек» («Казбек», 1899, № 1437) в тип абрека; тем самым еще более заостряется социально-критический элемент и углубляется драматизм положения. Исподволь возникает и одна из первых в осетинской русскоязычной литературе фигура пристава, поручика Гладкова, относительно которого «сделано представление о награждении за убийство известного абрека Али-бека. Для бедного пристава, не отличавшегося ни материальным положением, ни влиятельной родней, это было настоящим счастьем» . Строя планы на будущее, счастливый Гладков засыпает и видит во сне Али-бека: тот рассказывает ему историю свой жизни, полной физических и нравственных унижений, доведших его до разбоя. Монолог абрека, обличающий несправедливость мира, содержит выразительные пассажи: «(...) При теперешней жизни иначе и быть не может. Теперь счастье одного покупается страданиями другого. Одни живут счастливо потому, что страдают другие, а эти страдают потому, что живут счастливо первые. Если же страдающие будут стремиться к счастью и достигнут его, то обязательно ими высосется счастье счастливых» . Гладков просыпается под колокольный звон (действие происходит на кануне Пасхи), который «ужасною болью отзывается (...) в душе внезапно «проснувшегося» Владимира Петровича» . Последнее пробуждение пристава, как видим, взято автором (не слишком умело, конечно) в кавычки, чтобы сделать очевидным его переносное, символическое значение.
Лиризм прозы Цаголова ярко выразился в этюдах и рассказах, в которых главным героем выступает осетинский пастух: образ, объективно близкий горской природной стихии, своего рода часть горного ландшафта. Национальный антураж в этюде «Летней ночью» («Тифлисский листок», 1901, № 15) ничуть не нарушается урбанистической поправкой, вносимой новым временем в привычные естественные картины: горец остается пастухом, даже когда называется карантинным стражником, который дежурит по ночам, чтобы «не пропустить скот с плоскости в горы». «Карантин», «стражник», «дежурство» – только эти понятия конкретизируют эпоху, в остальном мы наблюдаем типичную национальную архаику. Безымянный герой Цаголова предается созерцанию дивной природы, и это созерцание уносит старика в прошлое. Главный, так сказать, сюжет этой судьбы, данной в воспоминании героя, «искорка в холодном тумане его прошлого» – любовь к девушке, которую, однако, сосватали за богача; Гвасса же «не захотела и бросилась в Урух... А потом... пошли дни за днями, скучные, тоскливые, холодные. Он чувствовал себя так, как будто чужим был на земле. Работает, отдыхает, говорит, а сам чувствует, что это все не то, настоящего нет» . Смерть в волнах Уруха (река в Дигорском ущелье Северной Осетии) – вариант гибели в горной пропасти, вообще популярной у Цаголова; но с учетом добровольности и сознательности такого выбора Гвассы необходимо отметить, что это первый случай суицида осетинской героини, могущего трактоваться как социальный протест, аналогичный протесту Катерины Островского. Впрочем, критика адатов здесь уже не принципиальна; здесь уже ставятся художественные задачи: в микрокосме личного существования передать самочувствие обездоленного горского народа в эпоху урбанизирующейся, но еще сохраняющей свой первозданный внешний облик, горной Осетии.
Помимо гибели в горной бездне, мы встречаем здесь и другой характерный цаголовский мотив – собственно, мотив песни, мотив закадрового пения, при котором не виден сам поющий. Такое анонимное, отвлеченное от образа конкретного исполнителя, пение гораздо плотнее насыщает картину, поскольку позволяет восприниматься пению как произведению естественной стихии, дыханию самого ландшафта, юдоли. Такое пение слышит здесь «стражник», «в помутневших старческих глазах» которого «иногда светились какие-то искры, грозные, холодные», – что, вероятно, следует уже понимать как признак определенной готовности к мятежу: «Что это за песня, такая заунывная, хватающая за самое сердце? Старик прислушивается. Мотив знакомый, родной. Это песня про Одинокого (известный фольклорный мотив. – И.Х.) (...) Голос становился все заунывнее. Певец не поет – плачет. Такую песню петь нельзя, ею плакать можно. И старый карантинный стражник оперся на длинную суковатую палку и тихо плакал...» .
Аналогичное пение выступает звуковым фоном и к сюжету этюда «Зимней ночью» («Казбек», 1896): «...из глубины мрачной трущобы послышалась песня. Пел приятный, но какой-то измученный, печальный голос. О чем пел голос, трудно было разобрать. Да и зачем разбирать слова? Это не песни. Это – стоны многовекового страданья народного, это – вопли наболевшей души человеческой...» . Песня у Цаголова – тоже плач и стон, как у Некрасова («Этот стон у нас песней зовется»).
Мотив пения (песни) получает наиболее полную идейно-художественную и композиционную нагрузку в миниатюре «Два пастуха» («Тифлисский листок», 1901, № 298), которая с равным успехом могла бы называться «Две песни». Интересна сама по себе аллегорическая мизансцена произведения: два пастуха-товарища наблюдают пробуждение очередного дня, полного забот, опасностей и тяжелого – «каторжного» – труда. Они стоят на противоположных склонах горного ущелья, и потому им открываются разные картины: первому не видно восходящего солнца, он смотрит вниз, на бешеный Урух, подобный «пораненному змею», на село, напоминающее издали «ком грязи»; второй же смотрит вверх «полными восторга глазами», на «среброглавых великанов», на солнце, которое, «как золотой челн, тихо плывет по голубой шири и кидает во все стороны волшебные золотые снопы, вносящие всюду свет и оживление...» Естественно, что они запевают разные песни, – и это заочное соревнование мажора и минора и составляет главный предмет произведения: «Обе песни сильны, обе одинаково проникают в самую глубь сердца. И кто скажет – какая из них победит?» . Важно, что в рамках хронотопа и идейной структуры произведения побеждает оптимистический мотив: последним тезисом в споре двух настроений оказывается (конечно, сознательное предпочтение автора) тезис жизнеутверждения, последнее слово остается за вторым пастухом. О нем сказано, между прочим, что он молод: в таком контексте первый, возраст которого никак не отмечен, соответственно, стареет, – а это формально гарантирует победу второй песни даже за рамками сюжета. Наконец, первый пастух смотрит вниз, второй – вверх: условно эту антитезу можно соотносить с переходным этапом литературы от реально-критического к революционно-романтическому стилю и жизнеутверждающему пафосу, которые ни у кого из русскоязычных писателей Осетии не соединились столь зримо, как у Цаголова.
Но Цаголов не останавливается и на революционно-романтическом; правда, его герои часто смотрят в небо, на солнце и звезды, но сами эти герои уже называются автором пролетариями: в РЯОЛ входит принципиально новый идейно-художественный концепт, именно Цаголов вводит в литературно-художественный оборот основные понятия и символы формирующейся пролетарской идеологии и эстетики.
Впервые они отчетливо звучат в рассказе «Цах-адага» («Тифлисский листок», 1901, № 156), где даны совершенно новые типы горцев и явления осетинской жизни. Социологическая типологией и типизация, которые ярко обнаруживают себя даже в поэзии Цаголова , тем более характерны его прозе; с ними связаны и новые для осетинской литературы алгоритмы портретно-описательной характеристики, включающие в себя элементы социально-экономического анализа и обобщения: «...собеседник он (Дабо. – И.Х.) очень интересный. Это настоящий тип горца-пролетария. Тип этот стал нарождаться среди горского населения сравнительно недавно. Раньше таких людей почти не было. Их создало новое течение жизни. Они родились на обломках натурального хозяйства, не устоявшего против мощного напора беспокойных волн товарно-капиталистического строя. История людей этого сорта длинна и почти всегда одинакова, иногда даже до самых мельчайших подробностей...» . Принципиально уже то, что социологический аппарат вполне применим в художественном тексте, что литература не «гнушается» им и включает его в свое органическое пространство. Возникает, соответственно, и полярный горскому пролетарию тип горского Гобсека, разорившего главного героя.
Другой образ горца-пролетария – безымянный осетин, бывший каторжник (возможно, беглый), встреченный рассказчиком и Дабо. В его повести звучат уже настораживающие, грозные нотки того отчаяния, которое подготовляет психологию, по меньшей мере, бунтаря-абрека: «К черту! Лучшие дни мои пропали... Теперь наверстать хочу. Наслажусь так, как душа моя хочет, упьюсь тем, чего душа моя сейчас жаждет... А потом и умереть не грешно...» .
Теперь становится очевидным главное в прозе Цаголова: он стремится – и уже отчасти достигает этого – показывать не только факты (что делали и до него), но уже полярные процессы пролетаризации и капитализации горского крестьянства, при этом, где необходимо, тонко различая цивилизационные (капиталистические) формы и нравственно-психологическое содержание жизни. Зачастую здесь, на поверку, не новое вино оказывается в старых мехах, а наоборот: так, старуха-жена Баде-«Гобсека» наливает мужу араку из «большого медного чайника» : тоже признак цивилизации и просвещения, который ассоциируется с пушкинским самоваром из «Путешествия в Арзрум». Но арака остается аракой во всякой посуде, равно как и сословное ханжество и преклонение перед богатством, в чем бы оно не выражалось: «У нас, у осетин, – жалуется Дабо спутнику-рассказчику, – на этот счет особенно плохо. Все у нас деньгами меряется. Много денег – ты умный и хороший человек, мало – хуже тебя на свете нет...» .
Оригинальную интерпретацию получают в рассказе вопросы просвещения, образования, национальной интеллигенции и интеллигентности. Дабо допускает, что «хороших людей много среди образованных и книжных», но они – по его мнению – живут, вероятно, в Петербурге и Париже. «Я слышал так, – говорит он, – что настоящие образованные люди бедных очень любят и о них только заботятся... А наши... А наш, если приедет в село, то всегда попадает к так называем почетным людям, которые всегда из богачей бывают. Они его принимают хорошо. Наестся это он хорошенько ахчина (пирог с сыром), а потом любуется горами, выпьет квасу, заявляя, что этот квас лучше всего на свете; попросит кукурузного чуреку, покушает маленький кусок и опять похвалит; наденет войлочную шляпу, вместо картуза; начинает петь осетинское «ва-райда» и, нужно сказать, очень плохо; погладит по головке подвернувшегося под руку мальчугана и начинает доказывать, что тот очень счастлив, потому что босиком бегает: здоровье, мол, будет... В степь даже выйдет... Там пора рабочая в разгаре. Пожалеет себя: вот, мол, счастливцы – работают на чистом, здоровом воздухе, а он, бедный, обречен на сидячую жизнь за книжками... А потом спешит опять к богачу, покушает опять ахчина и марш в город...» . Здесь, во-первых, выражен философско-гуманистический взгляд на смысл образования и образованности: для чего и быть выше прочих, как не для того, чтобы поднять и остальных до своего уровня? Во-вторых, отмечена уже некая начальная фаза деградации национальной интеллигенции (во всяком случае, ее части), которая все более утрачивает естественные связи с народом, прикрываясь «осетинофильской» демагогией и софистикой.
Ни у Канукова, ни у Хетагурова (как предшественников Цаголова) не было прочных оснований для сатирического изображения осетинской действительности, поскольку их предметом была по преимуществу Осетия доурбанистическая, требовавшая к себе по преимуществу романтического отношения и даже некого литературного пиетета; смеяться над патриархальным миром для горского писателя то же, что смеяться над родителями (критика имела место, но она – не обязательно смех). Капитализм внес серьезные поправки как в национальную «физиономию», так и в привычную природу межличностных и межгенерационных связей, и писатель вдруг «не узнал» своей родины и почувствовал себя пасынком: в такой ситуации уже ничто не препятствовало новому, максимально объективному взгляду на действительность, сатирическому углу зрения, который мы и находим у Цаголова.
С программными декларациями осетинского реализма, который в своих главных пунктах тяготеет к пролетарскому, Цаголов выступил в предисловии к задуманным им в 1899 году «Очеркам Кавказа», в которых писатель намеревался «дать ряд очерков и картинок современной кавказской жизни» . Декларации реализма и «натуральности» вопреки неоромантическим тенденциям, обещание художественной непритязательности и категорическое отречение от фантазии и вымысла, квалификация Кавказа как имперской провинции и захолустья, в которой царит тот же политический и идеологический климат и в котором актуальна та же типология характеров, положений и процессов, что в метрополии – все это относится к новому литературному настроению в широком смысле, к новому пониманию литературных задач и литературной методологии. Из задуманного цикла свет увидела только часть первого очерка – «Как бунтовал Гуго» («Казбек», 1899, приложение к №№ 3, 4, 6, 7), но в него вполне могли бы войти из рассмотренных выше произведений и «Цах-адага», и «Али-бек», – то есть, те, в которых, во-первых, превалирует не лирическая, а собственно эпическая составляющая и, во-вторых, где налицо ярко выраженная социальная тема.
Не случайно автор, приступая к повествованию о Гуго, гарантирует нам отсутствие даже «намека на какую-либо поэзию или что-нибудь романтическое», – то есть «чистейшую и обыкновеннейшую прозу» . Как бы в подтверждение того, что с социологической стороны нет никакой принципиальной разницы между Кавказом и внутренними российскими губерниями, Гуго у Цаголова «походит скорее на русского мужика, чем на сына гор» . Это – образ типичного горского собственника средней руки, который отчаянно не любит общественных вопросов, скучает на сходках, и весел только со своей «барантой»; Гуго вполне доволен своей жизнью и считает «счастливей себя только лишь св. Георгия да царя». «И вот этот-то голубоглазый Гуго вдруг был объявлен бунтовщиком и попал на остров Чечень...» : Цаголов уже в начале произведения заявляет фабулу и конфликт, чтобы затем перейти к детальному рассмотрению дела: тоже своего рода заверение в том, что он не хочет не только выдумывать, но и интриговать. Знаменитого острова Чечень, «где немало томилось и томится таких страшных дрейфусов, как Гуго» , читатель, к сожалению, не увидит (повествование обрывается на описании кампании, которую повел против голубоглазого горца старшина села Бекмурза), но в очерке дан, все-таки, ряд замечательных и симптоматичных картин осетинской действительности рубежа веков.
Через основной конфликт характеризуется экономическая и административная ситуация в Осетии. Старшина Бекмурза (и без того богатейший в ущелье человек, «кулак»), мечтающий об открытии большой лавки с «красным товаром» и постройке «русской мельницы», задумал завладеть сенокосным участком Гуго – превосходным местом для последней. С этой целью он сначала доносит на Гуго начальнику участка как на человека неблагонадежного, «беспокойного и кляузного», а затем составляет «подложный общественный приговор», который должен узаконить «отобрание участка».
Сюжет, таким образом, разворачивается в двух сценах, причем, что важно отметить, в двух интерьерных сценах. Вероятно, есть своя логика в том, что литература на принципиальном этапе урбанизации и политизации входит – и вводит читателя – в казенное помещение. Первая сцена происходит в «резиденции» начальника участка, к которому сделал визит старшина Бекмурза, – здесь тоже находит отражение обещанная автором «русско-кавказская жизнь». Описания интерьера как такового здесь нет, но налицо характерная деталь: слышно из угла «жалобное жужжание мухи, попавшей нечаянно в паутину» . Это и прообраз будущей участи Гуго, и символ провинциального застоя. Образ чиновника администрации впервые описан в осетинской литературе в близком, если не сказать, «внутреннем», по-салтыковски, рассмотрении: дан целый ряд остроумных предположений касательно того, о чем мог думать чиновник, который призван к управлению народом. Донос же Бекмурзы делает течение мыслей русского начальника достаточно очевидным: «Черт побери этих осетин! – думал он, выпуская красивые кольца дыма, – кляузный больно народ. Все ссоры, все ропот против различных распоряжений. (...) Вот теперь еще какой-то Гуго Анамондов появился на свет. И имя-то какое отвратительное!..» .
Сатирического изображение удостаивается уже не только русский начальник, но и соплеменники. Минимальные художественные условия сатиры (которыми, как сказано выше, еще не обладали сполна Кануков и Хетагуров) являются тогда, когда осетин надевает картуз, наливает араку из чайника, закусывает консервированными сардинами и пытается говорить по-русски (не случайно в младописьменных литературах столь популярна утрированная, пародирующая стилизация национального акцента). Уже последнего вполне достаточно для Цаголова, который с видимым удовольствием коверкает русскую речь в устах старшины Бекмурзы: «Добрая утром, васи вышокоблароди! (...) Дела много ест... Васа пришел, памагайт нам. (...) Там пива привезла моя... Баран тозе привезла. Наса оцень много васа лубит... Харасо цаловек васа...» .
Вторая сцена разворачивается в сельском правлении, что тоже само по себе примечательно, если иметь в виду, что до сих пор мы чаще встречались с романтически мрачными осетинскими аулами, которые лепятся к скалам, и подобным – как у Пушкина и Хетагурова – гнездам ласточек. Правда, у Коста в незаконченном «В горах» мы уже видели «здание» правления в ауле Дурхум, но только снаружи, – но Цаголов вводит нас внутрь. Темное, неопрятное помещение сельского правления и натюрморт с порожними бутылками и объедками пирога с сыром символизирует сумрак, царящий в делах кавказского администрирования и отчаянное запустение в «национальном вопросе», решаемом средствами, мало согласными с материалом. Повествование совершенно непринужденное, композиция отвечает «физиологическим» и «натуральным» задачам.
Так, мимоходом даны истории и образы сторожа Канчела и писаря «Авдакима», хозяина «дел» и «журналов». Нельзя сказать, однако, что сторож Канчел, писарь Евдоким и Гуго Анамондов – в строгом смысле сатирические образы; все для этого слишком психологически стихийны, значит, вполне невинны. Маленький человек не может быть объектом сатиры, даже если это русский, надевающий, как «Авдаким», изодранную «почти во всех пунктах» черкеску (другое дело – осетинский интеллигент и просветитель, тяготеющий к картузу). Цаголов любит этих своих героев, а любовь и насмешка не живут вместе. Другое дело, что автор, на наш взгляд, подчас слишком скован своей системой, своим стремлением изобразить действительность в типах, – по поводу этой принципиальной реалистической претензии случаются у него и нежелательные тавтологии: «Такими субъектами, – пишет он, дублируя пассажи из «Цах-Адага» и других текстов, – битком набиты все туземные селения. Судьба их почти до деталей одинакова» : социологическая терминология становится временами слишком навязчивой.
Мы знаем, что Гуго обречен на Чечень, но мы не можем быть уверены, что под бунтом Гуго автор иронически имеет в виду только его аполитичность и «ненависть» к общественным вопросам. Во всяком случае, произведение начато не таким образом, который обещал скорый финал: можно предположить, что бунта Гуго следовало ожидать впереди, что аполитичный Гуго кончился на острове Чечень, что жизнь заставила-таки бывшего осетина-собственника (вновь мотив пролетаризации) задуматься над известными «проклятыми» вопросами. Вспомним, что Гуго считал себя вполне счастливым, тогда как значение его фамилии – Анамондов («Несчастных», «Бесчастных»), – обещает серьезные перипетии для главного героя. В самом деле, не прочил ли его автор, например, в абреки?
Нам вообще кажется вероятным, что данное произведение осталось незавершенным потому, что автор вдруг увидел, что непроизвольно выходит за формат замысла «Очерков Кавказа»: получалась не картина и очерк, а едва ли не повесть. В таком контексте три главы романа из жизни горцев Кавказа «Абреки» (1913) представляется закономерной попыткой обобщить творческий опыт и материал кавказской жизни в цельное эпическое полотно. Действительно, в «Абреках» сливаются в одно русло едва ли не все мотивы кавказских (с точки зрения темы) рассказов, очерков, этюдов и миниатюр. С «Бунтом Гуго» «Абреки» ассоциируются, в частности, аналогичной – композиционно и эмоционально-оценочно – парой героев – старшиной Гетагазом Баласовым и писарем Иваном Седельниковым (которые тоже, кстати, названы «владыками» селения). С «Цах-адага» – (вспомним бывшего каторжника-осетина) «Абреков» связывает образ беглого каторжника (здесь это Кудайнат Назигинов, который тоже обещает по-своему «повеселиться»: «Нет, Али… Я в родной край пойду… Когда-то мою кровь пили там. Теперь я буду пить» .
Итак, вор Хамиц («Под Новый год») – безымянный осетин-каторжанин из Харькова («Цах-адага») – абрек Али-бек («Али-бек») – бунтующий Гуго с острова Чечень – безымянный абрек («Абрек») – беглый сахалинский каторжанин Кудайнат Назигинов («Абреки»); аульный писарь Иван («Аульный писарь») – «Авдаким» («Как бунтовал Гуго») – Иван Седельников («Абреки)»; «дигорские пауки» из публицистических статей Цаголова – Баде из «Цах-Адага» – старшина Бекмурза из «Гуго» – старшина Гетагаз Баласов из «Абреков»: таковы генеалогические линии развития некоторых характерных в творчестве Цаголова типов, которые должны были получить окончательное воплощение в задуманном писателем романе.
Заметим, помимо горца, и тип степняка-караногайца – в «Абреках» это Али Магомаев, друг Кудайната, тоже, как и герой-осетин, беглый каторжник. С 1902 года Цаголов начинает публиковать в газетах «Казбек», «Тифлисский листок» и «Майкопская жизнь» караногайские миниатюры – один из самых ярких образцов осетинской литературы, посвященной «инонациональной теме» и едва ли не самый революционно-романтический материал в наследии писателя. Образы старого Манка (типологический эквивалент старухи Изергиль или Макара Чудры М. Горького), сосущего трубку и рассказывающего степные легенды («Степь плачет», «Степь смерти», «На берегу Каспия»); нищего Бийбулата, который украл у лавочника водки, напился и умер («Бийбулат»), молодой матери Киз, поющей колыбельную («В кибитке»), рыбака-караногайца Али, рассуждающего с русским Иваном о счастье («У костра») и его тезки («Али»), который идет домой, в степь, «чтобы присоединиться к ее могучему воплю своей протестующей песней» – все это, наряду с горскими абреками, ворами, бедняками-пастухами, каторжниками бывшими и будущими – типы и характеры нового, революционно-пролетарского периода в развитии осетинской русскоязычной литературы, в которых слышится нарастающий шум смуты и бури, – и ярко выражено преодоление естественных для ее раннего состояния «комплексов младописьменности и транслингвизма» .
Важно, что и «горские» рассказы, и караногайские миниатюры (как и три главы «Абреков», несмотря на пояснение – «роман из жизни горцев») выходят далеко за пределы собственно горской темы. Уже наличие парохода, цирка, русского писаря, пристава, милиционера, начальника участка, соответственно, казенного интерьера, рыбопромышленника-армянина, мелочника-грузина – вводит в творческий мир Цаголова как никогда мощный урбанистический пласт. Но есть в этом мире и область, где указанный пласт предстает в качестве основного материала и главной темы. К 1896 году относится первый чисто урбанистический очерк Цаголова – «Уличные впечатления» («Казбек», 1896, № 96), открывающий цикл «городских» рассказов, которые в свою очередь вплотную подвели Цаголова к принципиальным для осетинской литературы опытам в жанре социальной повести и романа.
Сюжет имеет место на владикавказском бульваре: герой-рассказчик наслаждается прекрасной погодой и видами города, на которых лежит «отпечаток света и жизни»; но благостное впечатление омрачается, во-первых, нищенкой, просящей милостыню, во-вторых, презрительной реакцией «благородной дамы» («Фу!.. Какая нечистоплотность… И как это нескоро проникает свет в народную массу!» ), в-третьих, «сладострастными глазками» и «плотоядной улыбкой» перса-лавочника, приглашающего нищенку в свое заведение, в-четвертых, шумно сквернословящей компанией молодых людей, выходящей из винного погреба.
На другом идейном полюсе концепции – идеалы и образы, во-первых, «Диогена с его свечой, безуспешно разыскивающего в многотысячной толпе людской “человека”», во-вторых, Спасителя с его «великими и страшными словами»: «Идите от мене проклятии во огонь вечный... Взалкахся бо, и не дасти мне ясти, возжаждахся, и не напоисте мене...», в третьих – цитата из «Реалистов» Д.И. Писарева: «Конечная цель всякого нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет ничего, о чем бы стоило хлопотать, заботиться, размышлять» .
В сущности, с этого резко критического настроения начинается Цаголов как писатель, и эта критика шире пределов социальности: снова речь идет о недоверии реально осуществляемому просвещению и прогрессу: «...Я прибавил шагу, чтобы не видеть пьяной компании (...) Все они белые, как снег, одежды чистые, (...) ум их вкусил современной книжной премудрости, но кто может мне ответить прямо и чистосердечно на мой вопрос: проник ли свет в их среду?» .
На рубеже веков Цаголов начинает активно разрабатывать городскую тему, – причем в тех же жанровых формах, что «горская» и «степная». Такие произведения, как «Холодно» («Тифлисский листок», 1901, № 35), «К чужим людям» («Вестник казачьих войск», 1901, № 51), «Маша» («Вестник казачьих войск», 1902, № 26), «Игнат и Данилыч» («Казбек», 1903, № 1622), «Рассказ холостяка» («Казбек, 1903, № 1639), «К святкам» («Тифлисский листок», 1904, № 306), «Святою ночью» («Терские ведомости», 1912, № 66) воссоздают яркий образ современного автору провинциального города в различных социальных срезах: здесь и тихие, несчастные обыватели и мещане, и сторожа, и нищие скитальцы на папертях церквей, и умирающие от болезней блудницы, и юные образованные девицы, пишущие стихи, и фельетонисты-неудачники, и репортеры провинциальных газет. Это мир, по своей атмосфере закономерно сопоставимый с миром Чехова, Андреева и Горького.
В рамках этой темы постепенно выкристаллизовывается мотив, который должен был стать доминантой в задуманных автором больших эпических произведениях. Речь идет о печати и типе работника печати, журналиста, писателя. «Рассказ холостяка» и «Святою ночью» предваряют в этом смысле «Приключения репортера. (Очерки из жизни города Мутноводска и Мутноводской области)» («Терский край», 1911, №№ 13, 28); затем Мутноводск дает название новой повести – «Город Мутноводск» («Владикавказский листок», 1912, № 30), наконец, «Мутноводск» трансформируется в синонимичный «Болотинск»: неоконченный роман «В Болотинске» («Терские ведомости», 1915, №№ 72, 78, 81, 84, 89, 92, 94, 98, 103, 106, 109, 114, 117, 120, 123) так же собирает и синтезирует весь урбанистический опыт, как роман «Абреки» – горский и национальный.
3. Заключение
Ни одно из произведений большой эпической формы Цаголовым не закончено (причины тому разные, как объективные, так и субъективные, для нас же важен сам факт); тем не менее, данные опыты представляют значительный интерес с точки зрения эволюции жанров, «роста композиционной динамики» как отражения «роста классового сознания» , тематики и материала осетинской литературы. Урбанизация углубляется и укрупняется: здесь гостиницы, вокзалы, поезда, пароходы, цирковые представления, квартирные хозяйки-немки с их характерным акцентом, столь «любимым» многими русскими писателями, городская управа, городской голова («канцелярский громовержец»), сам губернатор, картина заседания городской Думы, типы газетного редактора и издателя, пивная с мезонином, водка с солеными огурцами, нефтяные площади и нефтепромышленники, акционерские общества, студенчество, наконец, главный герой «Болотинска», семинарист, исключенный за чтение Чернышевского, Дарвина и Маркса. В один ряд с типами горских, степных и казацких пролетариев становятся «интеллигентные пролетарии» и «лишние люди», городские изгои, босяки и люмпены, наконец, собственно рабочий пролетариат Болотинских нефтяных предприятий.
Итак, зрелое творчество Цаголова – это литература больших идейно-художественных задач, замыслов и значительных достижений. Помимо указанных здесь опытов в жанре повести и романа, статей, рассказов и стихотворений, написанных в XX веке и несущих отпечаток драматических виражей и коллизий российской революционной истории, следует отметить его обширное исследование по социологии и экономике Северного Кавказа «Край беспросветной нужды» (1912) и неопубликованные «Воспоминания», которые Цаголов написал в конце жизни, будучи в опале у органов советской власти.
Если для ранних творческих опытов Г.М. Цаголова характерна «уверенность в победе революции, справедливости нового общества» , то его позднейшие суждения содержат пессимистическую диалектику, не согласующуюся с ортодоксальным социализмом: «При наличии того человеческого материала, который (...) имеется в стране (...), у нас быстро произойдет выделение обширной сравнительно группы «организаторов» и вообще «руководителей» в области производства на всех его ступенях и фазах. Такое же выделение получится и в области управления общественной жизнью страны. В результате опять создадутся у нас группы населения: во-первых, более обеспеченные в материальном отношении, во-вторых, менее обеспеченные. (...) В результате страна может очутиться у того самого старенького «корыта», которое она старалась заменить новым, хорошим» .
Цаголов – первый осетинский писатель столь долгой – почти в 50 лет – творческой биографией; он начал писать в 80-е годы XIX века (когда был еще реальностью осетинский патриархальный, до-урбанистический уклад, и были в расцвете сил и Кануков, и Хетагуров), а ушел из жизни в эпоху индустриализма и тоталитаризма; будучи первым писателем, ярко выразившим в начале творчества оптимистический революционный подъем, а на склоне лет – сомнения в перспективах коммунистического строительства, он вполне может, с учетом объективных исторических и политических процессов, отразившихся в его литературном наследии, характеризоваться как «зеркало осетинской революции».