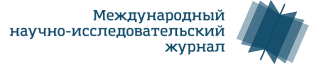ESKI'S CONFESSION AND KOSTA'S JUDGEMENT: TO THE POEM BY K.L. KHETAGUROV "BEFORE THE TRIAL"
ESKI'S CONFESSION AND KOSTA'S JUDGEMENT: TO THE POEM BY K.L. KHETAGUROV "BEFORE THE TRIAL"
Abstract
The article examines the ideological and artistic content of the Russian-language poem "Before the Trial" (1893) by the founder of Ossetian national literature Kosta Khetagurov (1859-1906). The phenomenon is analysed in the context of the development of lyroepic genre in the writer's work and taking into account the studies of Ossetian philologists of the Soviet period and recent years. The plot, composition and figurative system of the work are specifically studied; elements of romanticism and realism in its poetics are identified, which correlate with typical parameters of the Caucasian theme and Caucasian material. The author's position in the artistic space of the poem and the author's attitude to its protagonist, the "bandit" Eski, are analysed.
1. Введение
Поэма «Перед судом» (1893) – вторая «кавказская» – с точки зрения темы и материала – поэма основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова (1859–1906), которая даже более, чем «Фатима» (1889), «отвечает нормам романтической поэзии. Это, – отмечает К.Ц. Гутиев, – развернутый монолог, исповедь героя. Романтическим по замыслу является образ Эски, который может быть понят только в рамках романтического стиля. Эски – сильная и непреклонная личность, натура, способная взволнованно и ярко воспринимать мир и природу, (...) тип романтического героя, мятежника и бунтаря. Пафос поэмы составляет столкновение вольнолюбивого горца с адатом, конфликт с окружающей средой» «Коста, – писал в свое время и Х.Н. Ардасенов, – создал образ романтически возвышенного, храброго молодого человека, который «открыто выступил на бой с адатом родины суровой»» . В аналогичном ключе резюмирует содержание поэмы и Ш.Ф. Джикаев: «Это – монолог-исповедь Эски-разбойника, пережившего трагедию бунтаря в обществе, основанном на праве сильного и богатого» . Наиболее принципиальным является для нас подтверждаемое критиками закономерное соответствие кавказской темы и романтического стиля, – наблюдение, которое мы, со своей стороны, хотим дополнить и развить, как и в случае с «Фатимой» , рядом соображений о сюжетных коллизиях, образной системе и авторской позиции, связанной с личным поэтическим и психологическим опытом Коста как одним из главных источников художественного мира поэмы.
«Поэмы Коста – крупнейшее событие в истории духовной культуры осетин, – пишет К.Ц. Гутиев. – А поэмы, написанные им на русском языке, стали своеобразным и очень интересным явлением и русской литературы последней четверти XIX века» . Следует иметь в виду, что поэмы Хетагурова создавались спустя полвека со времени бурного расцвета романтической кавказской поэмы в русской классической литературе. Здесь им предшествовала прочная и богатая традиция: «Кавказский пленник» (1821) и «Тазит» (1830) А. Пушкина, «Дагестанская узница» (1824) А. Шишкова, «Эрпели» (1830) и «Чир-Юрт» (1832) А. Полежаева, «Черкесы» (1828), «Кавказский пленник» (1828) «Измаил-бей» (1832), «Мцыри» (1839) и «Демон» (1841) М. Лермонтова, «Кавказ» (1845) Т. Шевченко, а практически одновременно с поэмами Коста были созданы и вышли в печати «Гребенский казак» А. Шидловского, «Мщение черкеса» В. Яковлева и другие поэмы стилизованно романтического характера, посвященные северокавказской действительности.
Своеобразие, о котором говорит Гутиев, заключается, вероятно, в сравнительно большей свободе Хетагурова от влияний эпигонского романтизма, которая также, как в случае с декадансом, гарантирована иммунитетом младописьменности. Многое было гарантировано и особостью угла зрения, позиции: Коста наблюдает среду изнутри, он в гораздо большей степени растворен в своих кавказских поэмах, в рисуемых им характерах, чем, скажем, Пушкин, Лермонтов и Полежаев, все-таки смотревшие на материал глазами другой культуры. Даже «Фатима» и «Перед судом», наиболее горские по своему колориту и страстям, поэмы, имеют своим главным предметом социальные и нравственные (психологические) пружины, двигающие человеком, и в этом смысле они гораздо реалистичней, чем выдающиеся произведения русских поэтов.
2. Основные результаты исследования и их обсуждение
«Перед судом» – не только вторая кавказская, но и хронологически вторая поэма Хетагурова; для ее верного понимания необходимо иметь в виду творческий опыт «Фатимы». С этой точки зрения (вспомним наблюдение Уистена Одена, утверждавшего, что каждое новое произведение в известном смысле является развитием предыдущего ) «Перед судом» не может не развивать (в положительном или отрицательном смысле – это другой вопрос) важнейшие концепты первой поэмы Коста Хетагурова.
Как соотносится «Перед судом» с «Фатимой» на уровне внешней формы? Наиболее общий поэтический параметр – размер стиха – остается прежним (четырехстопный ямб с перекрестной, параллельной и кольцевой рифмовкой); но если в «Фатиме» последний варьируется в зависимости от частных художественных и идеологических задач, то «Перед судом» характеризуется единым ритмом поэтического дыхания. Данное положение связано с тем, что первое повествование более объективно и эпично (не зря в подзаголовке стоит «кавказская повесть»), и повествователь «Фатимы», таким образом, может дышать произвольно; «Перед судом» же представляет собой именно исповедь героя в виду неизбежного суда и казни (то, что Эски будет-таки казнен, опосредованно выражено в авторских иллюстрациях на автографе поэмы, подаренном К. Хетагуровым Анне Поповой: в начале текста изображена «виселица с повешенным горцем, в конце – поникшая в печали женская головка» ): Эски не знает и не обязан знать, как он дышит, для него важно, что сказать, а не как. Это самая субъективная, с точки зрения повествовательного принципа, поэма Коста: читатель наблюдает мир исключительно глазами героя; мир поэмы – это и есть мир Эски.
Тем самым обусловлены объем, архитектоника и композиция поэмы. «Перед судом» – самая малая поэма Коста (186 стихов: исповедь горца не может быть слишком многословной). Она не имеет внутреннего структурного деления на главы, но важно отметить, во-первых, единственный междустрочный пробел после 76 стиха, во-вторых, 8 абзацев («красных» строк). Указанный пробел не играет, на наш взгляд, сколько-нибудь актуальной роли; хотя и понятно, что, по замыслу автора, он отделяет экспозиционную часть от основной (развития действия). Мы, со своей стороны, выделяем в поэме четыре более или менее четко выраженных части, начала которых всегда соответствуют авторской красной строке, – пробел же логически оказывается внутри третьего «отдела». В 1-й части (два первых абзаца) опосредованно заданы социальные условия, и мизансцена совершенно ясна: мы видим перед собой закованного в кандалы абрека, а в прошлом простого бедного горца, совершившего преступление перед законом. То есть, речь идет об общественных реалиях пореформенного периода на Северном Кавказе, исторический фон поэмы – Кавказ в эпоху установления царского администрирования.
Уже самый зачин актуализирует мотивы, известные из лирики («Кто ты?» и др.) Хетагурова. В частности, герой не хочет признавать какого-либо значения имени, году (возрасту) и званию как вещам пустым и формальным, не относящимся до сути дела, и уже не важно, что он называет-таки себя: Эски, убийца, вор, разбойник , – тем самым только подчеркивается его презрение к жизни, человеческому суду и смерти. При этом следует заметить, что под словом «вор» здесь имеется в виду «ворог», «враг»: романтический герой не может воровать, это для него мелко.
Жизнь как «грязная ноша» предваряет главную мысль и мотив 2-й части (3–5 абзацы): преступление Эски (читатель пока не знает, в чем именно оно состоит) заранее объясняется, в полном соответствии с поэтикой социального критицизма, общественным устройством – единственный, но весьма существенный реалистический пункт, который правомерно актуализировал С.Ш. Габараев . Эски делает это так же непроизвольно, как «дышит» ямбом, – но тем самым и достигается относительная убедительность авторской идеи: продолжая галерею хетагуровских сирот и изгоев, Эски из подсудимого превращается в обвинителя: «Для взрослых я служил забавой» и т.д.
Когда миру людей (собственно, обществу) литературный герой обязан лишь страданием, последнее, как правило, компенсируется благодатным общением с миром природы. Этот мотив доминирует в 3-й части (6–8 абзацы) и представляет лучшие с художественной точки зрения фрагменты. Они совершенно оригинальны, но нельзя не предположить наличие определенных стилевых заимствований, опять-таки, из Лермонтова – именно из его наиболее рафинированной романтической поэмы «Мцыри»: «...Как я любил шум водопада, // Вершины гор, небесный свод // И скал задумчивых молчанье!..» .
Подобно Мцыри, Эски признается в том, что обязан своими лучшими минутами созерцанию нерукотворной природы, олицетворяющей идею свободы (прежде данной только в «смутном сознаньи», в предчувствии ее как должного); больше того, если социальной средой объясняется его преступление, то «красотами мирозданья» и родной кавказской природы объясняет Эски свой «песенный дар». То, что Коста сподобил своего героя поэтическим талантом, принципиально: во-первых, это показывает степень авторского сочувствия и самоотождествления с героем; во-вторых, углубляет конфликт (поскольку углубляется сознание конфликта самим героем), в-третьих, оно же работает и на коллизию и сюжет. Так, от темы природы повествование вновь переходит (тут же, внутри третьей «части») в социальный план; именно талант певца открывает Эски дома знатных соплеменников: «За них (песни. – И.Х.) меня и принимали, // Как гостя, потчевали все, – // И те, которые так гнали // Меня когда-то, даже те! // Холопа нет, раба не стало, – // Я был пастух, но человек» .
От этой метаморфозы, правда, несколько страдает чистота интонации на уровне фабулы, поскольку значительно реабилитирует общество: что ж на него и пенять, если оно способно на справедливую оценку достоинств, тем более поэтических? Определенным диссонансом звучит и первая строфа после авторского пробела: «В аул на праздник Магомета // Из гор охотно я ходил, – // Весь день, всю ночь там до рассвета // В пирах и пляске проводил» – ибо «пиры и пляски» плохо вяжутся с образом Эски, выступая скорее метафорой праздности, а не труда и поэзии. Как бы то ни было, таланты Эски служат, в рамках фабулы, минимальным условием, подготавливающим кульминацию.
Часто случается, что небольшая экспозиционная условность ведет, по мере восхождения к кульминационному пику, ко все более очевидным натяжкам. Таковой здесь может представляться не только неожиданная популярность Эски среди девушек аула, но и то, что он вообще позволяет себе выбирать: «…пастух бездомный, // Я сжился с мыслью – «выбор мой», // И сердце подарил одной, // Всегда задумчивой и скромной // Княжне Залине...» . Что данное положение несколько противоречит образу героя, видно из формулировки, предпочтенной – при изложении сюжета – Х.Н. Ардасеновым: «Случилось так, что Эски влюбился...» . Очевидно, что сознательный выбор и случай – это разные сюжеты. Во всяком случае, тут, кажется, является другой, неизвестный Эски, сердце которого открыто не только поэзии, но и гордыне: обстоятельство, которое не учла прежняя критика, склонная идеализировать (типизировать известным образом) даже уголовное преступление, если оно совершено в условиях «колониального» режима и «реакционно-патриархального» адата.
Коста, в частности, показал своей поэмой, что не только благими намерениями, но иногда и божественным даром мостится дорога в ад. Если бы не песни Эски, он был бы жив для своего стада, но мертв для Залины и Коста (поэмы), ибо, в конце концов, его исповедь есть ни что иное, как его последняя песня. Ад здесь (четвертая часть, 8-й авторский абзац) – это не суд и предстоящая казнь или Сибирь и не раскаяние в строгом смысле слова (от которого Эски далек: «...мое признанье – // Не слезы, не мольбы и стон...» ), – но все-таки сознаваемая героем бессмысленная жестокость деяния («У камня, посреди долины, // Убил я жениха Залины... // А остальных, – их было много, – // За что и где? Не знаю сам... // Я помню лишь, судил я строго, // Не внемля стонам и слезам...» ). Но, с другой стороны, в виду этой жестокости мотивация преступления в устах самого Эски, будучи насыщена актуальной для автора и литературной эпохи фразеологией, уже не только декларативна, но и несколько лукава: «...Я полюбил весь мир, весь свет // И дерзко требовал в ответ // Себе какой-то жизни новой – // Свободы, равенства и счастья… // Я дерзко требовал у всех // Любви и братского участья, // А встретил ненависть и смех... // С каким глубоким омерзеньем // Я был отвергнут!..» .
В качестве особого вопроса следует выделить здесь отношения Эски и Залины. Очевидно, автор испытывал определенные трудности в его решении, что тоже является следствием указанной экспозиционной условности. Первое по ходу рассказа указание характера этих отношений – «...на что вам знать тревоги // Согласно бьющихся сердец?» , где «согласность» остается в тени самого образа Эски (оно как бы заключено в скобки). Последнее «я был отвергнут» несколько сбивает читателя с толку, – и Коста спешит оговориться: «Гнетущий страх пред пошлым мненьем // Толпы злорадной... Брань и спор... // Насилье... Девичие слезы (...) Все, все Залина погубила // Своею страстью роковой! // Зачем, безумная, любила, // Страдала, мучилась со мной? // Чего достигли мы любовью?!» , – именно чтобы было ясно, что Эски отвергнут не Залиной, а ее фамилией, что Залину против ее воли выдают замуж за богатого и знатного жениха. Коста здесь, как нам представляется, несколько хлопочет, – не рисует, а объясняет; он знает, что читатель легче верит в любовь Эски, чем в любовь Залины. Вряд ли можно принять безоговорочно точку зрения, согласно которой ««женская тема» в поэме «Перед судом» является одной из ведущих, поскольку в событийной основе произведения лежит любовная интрига» . Образ Залины остается функцией, необходимой сюжету, и не обладает самостоятельным бытием. Но, с другой стороны, если бы Залина обладала самостоятельностью, это была бы другая поэма, а Залина была бы уже не Залиной, а Фатимой: это первое наблюдение касательно соотношения «Фатимы» с «Перед судом» на уровне сюжета.
Второе (и гораздо более важное) относится, конечно, к самому Эски, в известной мере развивающему как концепцию образа Ибрагима, так и концепцию образа Джамбулата (поэма «Фатима»), и не менее, чем последние, представляющему собой авторскую сублимацию. Социологически Эски – это Ибрагим: он безроден и трудолюбив. Этически Эски – это Джамбулат: он исполнен гордыни, он нераскаян («Я ненавижу, презираю // Улыбку радостного дня...» ). Очевидно, Эски – тоже образчик демонически отчаянного – в христианском смысле – героя, но в таком контексте не совсем понятно его признание в ослепленности «мыслью ложной» . Строго говоря, у Джамбулата больше шансов на раскаяние и искупление грехов: его, по меньшей мере, не казнят. «Перед судом» относится к «Фатиме» как психологический и этический эксперимент в целях проверки противоположной гипотезы: тут не Джамбулат убивает Ибрагима, а Ибрагим Джамбулата. Заметим, что для исследователей социологический критерий всегда был актуальней прочих: преступление Джамбулата – это только убийство; преступление Эски – протест едва ли не революционного толка; убийство в «Фатиме» разоблачает убийцу, а убийство в «Перед судом» – облачает и венчает.
Третье – и последнее – наблюдение по сюжету заключается в безусловной синонимичности схемы первой и второй кавказских поэм Хетагурова: и там, и здесь мы, собственно говоря, наблюдаем убийство на почве ревности. Психологическое содержание основных образов «Фатимы» и их системы сохраняет свою актуальность и для поэмы «Перед судом»: «треугольник» Ибрагим – Фатима – Джамбулат синонимичен «треугольнику» Эски – Залина – Жених. С той, пожалуй, разницей, что в последнем случае коллизия достигает даже большей остроты, поскольку здесь слабый убивает сильного.
3. Заключение
Подводя итог данному рассмотрению, нужно еще раз обозначить литературно-исторический контекст второй кавказской (и романтической) поэмы Коста Хетагурова. Правомерность и необходимость такого завершения обусловливается имевшей место в осетинском литературоведении полемикой относительно основной проблемы «Перед судом» и авторской позиции в отношении ее главного героя. Н.Г. Джусойты, например, писал, что отношение Коста Хетагурова «к герою поэмы «Перед судом» сложно и, в конечном счете, отрицательно» . Х.Н. Ардасенов считал такое мнение необоснованным «во-первых, потому, что ничем не доказано отрицательное отношение автора к герою поэмы, и, во-вторых, вопрос об абречестве или разбойничестве не является главным в произведении (...). В основе поэмы «Перед судом» лежит конфликт между личностью, жаждущей свободы и счастья, и феодально-патриархальной средой, узурпировавшей права простого человека (...) Он восстал против феодального гнета, и этот стихийный порыв одиночки характеризует его с положительной стороны» .
Очевидно, однако, что бунт Эски – это тоже следствие его борьбы за личное счастье, так что, по справедливости, прежде чем похвалить его, следовало бы поставить ему на вид его эгоистические устремления. Стоит заметить, что имя «Эски» на тюркских языках означает «старый», «ветхий»: в этом тоже выражается отношение автора к его герою. Это герой прошедшей эпохи и исчерпавшей себя морали. Коста, хоть оплакивает Эски, но зовет соплеменников вперед, в будущее.
Подобно герою гражданской лирики Коста (да и отчасти самому Коста), Эски становится общественно значимой фигурой только тогда, когда он умирает для личного (вспомним авторскую иллюстрацию с повешенным горцем). «Смерть, – говорит Новалис, – это романтизированный принцип нашей жизни. Смерть – это жизнь после смерти. Жизнь усиливается посредством смерти» . И все же (если решать вопрос как дилемму) автор симпатизирует Эски в гораздо большей мере, нежели допускает Н.Г. Джусойты: это уже вполне доказано фактом самой поэмы: герою, типизируемому категорически отрицательно, не доверяют исповедей. Кроме того, вряд ли мы ошибемся, если скажем, что тип разбойника не может быть схвачен без доли сочувствия (как сам разбойник не будет никогда схвачен при сочувствии к нему). Во всей русской и европейской литературе мы не найдем примера, опровергающего это правило. Оно относимо и к «Разбойникам» Шиллера (1781), и к «Братьям-разбойникам» Пушкина (1822), и циклу «разбойничьих» поэм Лермонтова – «Корсару» (1828), «Преступнику» (1829), «Исповеди» (1831), «Моряку» (1832); в этом контексте, в этой генеалогической линии и следует видеть поэму Коста. Феномен разбойничества некоторым образом имманентен романтическому духу и мироощущению, романтической концепции творчества, поскольку бунт – разбой – мятеж – революция (категории одного ряда) – представляют собой апофеоз романтически понимаемой конфликтности («пошлая действительность» – «высокий идеал»). Северокавказские литературы расширили эту парадигму, добавив к известной физиономии разбойника и мятежника (которая становилась уже некой окаменелостью) новые колоритные штрихи и реанимировав ее свежей «варварской» кровью и младописьменным темпераментом, – расширили и обогатили уже самим непривычным европейскому и русскому слуху словом – абрек, абречество (хотя, заметим, слова «абрек» и его производных в рассмотренной поэме нет).
Если, как мы сказали в свое время, «Фатима» и «Перед судом» представляют собой прежде всего эпические сублимации личного и интимного , то последующие поэмы К.Л. Хетагурова – «Чердак» и «Кому живется весело» – это преимущественно произведения социальной проблематики и гражданского пафоса. Мы наблюдаем в данной классификации теснейшую связь между абстрактными концептами метода и материала. Автор первой пары поэм – все-таки горец, в котором бушуют романтические стихии; автор «Чердака» и «Кому живется весело» – уже горожанин и гражданин, сменивший папаху на шляпу и вменяющий себе в обязанность трезвость взгляда на реальный мир.