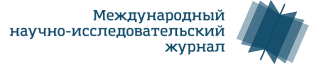ОТ ЧЕЛОВЕКА К ГИБРИДУ: СТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
Гобрусенко Г.К.
ORCID: 0000-0002-5588-884X, Аспирант, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ОТ ЧЕЛОВЕКА К ГИБРИДУ: СТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы онтологической гетерогенности современной культуры и самоопределения человека в условиях стремительного развития науки и технологии. Особое внимание уделяется вопросу о том, каким образом материальные объекты инкорпорированы в современные культурные процессы и во взаимодействия между культурами. Трансформации современной культуры анализируются с помощью концептов сети, перевода, киборга, гибрида, которые были разработаны в рамках современных «исследований науки и технологии» (Science and Technology Studies, STS), в частности, в акторно-сетевой теории (Actor-Network Theory, ANT) Б. Латура и концепциях Э. Пикеринга и Д. Харавэй.
Ключевые слова: общество, наука, технологии, взаимодействие, гибрид, киборг, сеть, культура, Латур, Харавэй.Gobrusenko G.K.
ORCID: 0000-0002-5588-884X, Postgraduate student, Moscow State University
FROM HUMAN TO HYBRID: THE EMERGENCE OG NETWORK CULTURE
Abstract
The article deals with the problems of ontological heterogeneity of modern culture and of human identity in the conditions of rapid development of science and technology. Special attention is paid to the question of how material objects are incorporated into contemporary cultural processes and interactions between cultures. The transformation of modern culture are analyzed using the concepts of network, translation, cyborg, hybrid and etc., which have been developed in the contemporary «science and technology studies» (STS), in particular, actor-network theory (ANT) by B. Latour and concepts by A. Pickering and D. Haraway.
Keywords: society, science, technology, interaction, hybrid, cyborg, network, culture, Latour, Haraway.Начало XX века можно считать первым серьезным кризисом новоевропейской философии субъекта, ознаменовавшимся призывом основателя феноменологии Э. Гуссерля: «Назад, к самим вещам». Несмотря на то, что этот призыв не был реализован, и большинство феноменологов, включая самого Гуссерля, в итоге сделало выбор в пользу того или иного концепта субъекта – трансцендентального, экзистенциального, социального, попытки вернуться «назад, к вещам» осуществляются до сих пор. Поиск более фундаментальных онтологических структур уже во второй половине XX века выявил принципиальную недостаточность субъективистской перспективы, указав на то, что субъект выступает не как некоторая незыблемая точка отсчета, а скорее как неустойчивый результат более сложных гетерогенных процессов и отношений.
Пересмотр традиционного образа независимого субъекта как источника и движущей силы рационального познания и преобразования окружающего мира стал одним из наиболее значимых результатов начавшейся на рубеже 60-70-х годов тотальной ревизии дискурса новоевропейской философии[1], особенно его основополагающих понятий: «субъект», «рациональность», «знание», которые были подвергнуты критике, прежде всего, в философии науки. Если в начале XX века данная сфера была представлена в основном позитивистскими стратегиями и их модификациями, которые были ориентированы на изучение науки в качестве некоторого набора формальных когнитивных процедур, производящих всеобщее и необходимое знание о мире, то к началу 60-х годов благодаря развитию постпозитивистских подходов К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса и др. исследования науки начинают стремительно приобретать междисциплинарный и трансдисциплинарный характер. Открытие исторического и социо-культурного измерения научного знания способствовало увеличению числа не только самих науковедческих проблем, но и стратегий их решения, чьи методы и концептуально-понятийные ресурсы все чаще были позаимствованы у различных нефилософских дисциплин – истории, психологии, социологии, культурологии, экономики, этнографии и т.д.
Появление альтернативных моделей философии науки, учитывающих культурно-историческую и практическую составляющую научной рациональности,[2] привело не только к существенному расширению исследовательского поля данной философской дисциплины, но и к размыванию самих границ между «наукой» и «не наукой», вследствие чего этапы познавательного процесса были приравнены к социо-культурным ситуациям, что способствовало сближению и синтезу эпистемологических, социологических и культурологических парадигм. К началу 80-х годов социологические подходы к изучению науки заняли доминирующее положение в сформировавшемся поле междисциплинарных обменов, пополнив науковедческие программы «социологией научного знания» (Sociology of Science Knowledge, SSK) и «исследованиями науки и технологии» (Science and Technology Studies, STS), которые долгое время входили в состав направления под названием «социальный конструктивизм»[3].
Приоритетной темой социального конструктивизма стало исследование науки как одной из форм социальной организации с присущими ей нормами, правилами и практиками, при этом акцент делался на лабораторной деятельности ученых, в которой взаимодействия с природными объектами и искусственными артефактами (инструментами и приборами) сочетаются с социальными отношениями в научном коллективе. С точки зрения социального конструктивизма, именно материальные объекты играют детерминирующую роль в конкретных познавательных ситуациях.
Сформировавшаяся в рамках социального конструктивизма «феминистская теория науки» сфокусировалась на анализе гендерных различий и взаимоотношений полов в рамках научных практик, тем самым, обратив внимание исследователей науки на телесную составляющую познающего субъекта. Благодаря феминистской эпистемологии в фокус исследований философии и социологии науки, ориентированных, прежде всего, на изучение наук о природе, в частности, физики, попали науки о человеке, например, биология и антропология, что повлекло за собой дальнейшее взаимопроникновение естественнонаучных и гуманитарных дисциплин[4] и открытие новых исследовательских перспектив.
Указанные тенденции инициировали так называемый «поворот к вещам» (в другой терминологии к материальному, к объектам) в поле междисциплинарных исследований науки, который был связан с радикальной переоценкой роли «вещей» (материальных объектов и артефактов) в человеческих практиках. В концептуальных рамках данного поворота была переосмыслена фундаментальная оппозиция западной философии науки, согласно которой наука как теоретическое знание противопоставлялась технике как продукту практического применения теории. Поскольку понятие объекта («вещи») трактовалось предельно широко – под него подпадали растения, животные, объекты и явления природы, искусственно созданные артефакты, то и понятие технологии было расширено до всего множества объектов материальной культуры, что, в свою очередь, привело к сближению предметных областей философии науки и философии технологии[5] и к последующей интеграции данных дисциплин[6].
Понятия «общества», «науки» и «технологии» становятся, по сути, взаимозаменяемыми, а автономия человеческой деятельности оказывается под вопросом, поскольку действуют не люди, а «сложные взаимосвязи людей и материальных предметов, таких как, знаки, машины, технологии, тексты, физические среды, животные, растения и отходы производств» [10, с. 28], в результате чего общество превращается в «рискованное предприятие науки»[7] [13, p. 102]. В связи с этим, все большую актуальность приобретает проблема самоопределения современного человека, живущего в мире, который стремительно изменяется в результате проникновения научно-технологических факторов во все сферы жизни. Вовлеченность человека в современную научно-технологическую культуру требует нового осмысления, поскольку мы уже не можем позиционировать себя в качестве самодостаточных индивидов.
Один из ведущих исследователей науки и технологии Бруно Латур охарактеризовал современную культурную ситуацию как эпоху «распространения гибридов». По мнению французского социолога, наш мир уже давно заполонили объекты, онтологически и семиотически занимающие положение «между природой и культурой» - соединения машин, людей, природных явлений и технологий: озоновые дыры, глобальное потепление, клоны, имплантанты, трансплантанты и т.п. Той же точки зрения придерживается и Харавэй, которая в своем знаменитом «Манифесте киборгов» говорит о том, что фигура киборга, физического и семиотического гибрида биологических и технологических элементов, - это форма вызова, брошенного культурой высоких технологий классическим дуализмам [11, с. 362]. И Латур, и Харавэй предлагают новую специфическую концепцию общества и культуры, которая предполагает неразрывную взаимосвязь человеческих и нечеловеческих агентов, humans и nonhumans, находящихся в режиме постоянного диалога[8] и совместного гетерогенного становления.
Одним из главных следствий междисциплинарных дискуссий об онтологической гетерогенности современной культуры в сфере «исследований науки и технологии» можно считать новый взгляд на nonhumans, согласно которому во множестве ситуаций люди и «вещи» являются взаимозаменяемыми, становясь, по сути, воплощением друг друга. И те, и другие предстают одновременно как действующие лица (субъекты действия), при этом их базовой характеристикой становится способность оказывать если не целенаправленное, то, по крайней мере, значимое воздействие друг на друга. В связи с этим, утверждение о том, что во взаимодействиях humans и nonhumans в качестве источника смыслов выступают только человеческие существа, оказывается, как минимум, проблематичным, поскольку «вещи» демонстрируют способность производить и изменять значения в той же степени, что и люди. Например, человек с оружием – это соединение, в котором оба элемента, и человек и оружие, активны и наделяют друг друга определенным значением [14, p. 178-179].
Преодоление асимметрии в трактовке человека и мира, неизбежно возникающей в концепциях, основанных на дуалистической парадигме, наиболее успешно было реализовано в так называемых симметрических онтологиях[9], разработанных акторно-сетевой теорией (Actor-Network Theory, ANT) Б. Латура и подходами-сателлитами Э. Пикеринга и Д. Харавэй, которые на протяжении последних двух десятков лет занимают ведущее положение в STS. В симметрических онтологиях в качестве альтернативы различным модификациям картезианского дуализма и механическому монизму за основу берется реляционный принцип понимания природы вещей, согласно которому онтологический статус и свойства любого объекта (человека, природного явления, технического устройства) не заданы a priori, но постоянно определяются и переопределяются его взаимоотношениями с другими сущностями. Базовой моделью организации и описания таких взаимоотношений становится сеть, представляющая собой совокупность гетерогенных взаимосвязей объектов, действий и событий, в которой не существует непреодолимых границ между онтологически различными регионами, так как последние пребывают в становлении по отношению друг к другу. Сетевая модель исключает любой вид традиционного фундаментализма или трансцендентализма: «чистые» субъекты и объекты, равно как и «чистые» сознание и материя возможны лишь как относительный результат временной стабилизации сетевых отношений, и потому не могут выступать в качестве исходного пункта при осмыслении реальности. Ключом к пониманию мира становятся не экстремальные сущности, а ситуации взаимодействия, в которых nonhumans, в том числе человеческое тело, являются действующими лицами – акторами, а не пассивными объектами.
Центральным понятием симметрических онтологий является понятие «становления» или «практики». Именно практика является исходным онтологическим пунктом, позволяющим уйти от традиционных противопоставлений и получить новое понимание мира как действия (или «мира как глагола» в терминологии Харавэй). Непрерывное взаимоконституирование сущностей порождает «смешанные» (гибридные) формы реальности, в которых субъекты и объекты, тело и сознание являются «материально-семиотическими агентами», не только наделяющими друг друга значениями, но и в большинстве случаев соединенными между собой в единые организмы. С точки зрения, Пикеринга, практика – это диалектическое единство «сопротивления и приспособления» множества равноправных агентов, будь то люди, природные явления или материальные артефакты. «Мир – это непрерывно действующие вещи, которые относятся к нам не как представления к бесплотному интеллекту, но как материальные силы к телесным существам» [16, p. 6].
Предложенная Пикерингом онтологическая модель «вальцов практики» (the mangle of practice) по аналогии со старыми отжимными машинами (вальцами), прокатывавшими белье между двух валиков, представляет культуру как процесс «непрерывного взаимного прокатывания человеческих и нечеловеческих субъектов действия» [16, p. 204-205]. «Практика – это поле взаимодействия человека с материальным окружением, где детерминация осуществляется в обоих направлениях» [17, p. 152]. Это своеобразный «танец действия» [16, p. 116], не предполагающий достижения какого бы то ни было предсказуемого и устойчивого результата. Таким образом, практика становится универсальной онтологической категорией, распространяющейся на «все значимые конфигурации мира» [17, p. 38].
Симметрические онтологии STS представляют собой серьезный вызов антропоцентризму, настаивая на том, что у нас нет оснований для антропологизации социологии и культуры. Предложенная ими концептуализация нечеловеческой активности[10] позволяет не только по-новому взглянуть на изменения, происходящие в современной культуре, но и пересмотреть само понятие культуры, которое традиционно ассоциировалось, прежде всего, с символической деятельностью людей, поэтому наш дальнейший анализ будет строиться вокруг двух ключевых вопросов:
- Каким образом материальные объекты инкорпорированы в современные культурные процессы и во взаимодействия между культурами?
- Какой инструментарий предоставляют Science and Technoloy Studies для концептуализации культурных трансформаций?
Культура традиционно понималась как «достаточно замкнутое и локальное образование»[11] [4, с. 3], что во многом было связано с идеей общества «как ограниченной и относительно замкнутой системы» [9, с. 16], пространственно локализованной в конкретном географическом регионе[12]. Метафоры системы, структуры и региона являются главными концептуальными ресурсами понимания общества в социологическом дискурсе, различные теоретические ракурсы которого представлены подходами критической теории, этнометодологии, функционализма, интеракционизма, марксизма, теории структурации, веберовской теории, феминизма и теории систем.[13] Вслед за пониманием общества как конкретной социально-экономической структуры, культура трактовалось как некая, свойственная определенному обществу, застывшая система этнических и религиозных ценностных установок и традиций, изменения в которой происходили очень медленно и по времени превосходили жизнь человека. Безусловно, такие локальные системы вступали в определенный диалог друг с другом, но поскольку возможности коммуникации (в особенности, тех средств, которые могли ее обеспечить) были весьма ограниченными, основные культурообразующие компоненты не подвергались серьезному влиянию извне.
По мнению М. Маклюэна, именно развитие средств коммуникации определяло тот или иной тип общества, культуры и форм человеческого восприятия [3, с. 13]. В своей знаменитой работе, посвященной становлению «галактики Гуттенберга», канадский культуролог показывает, как коммуникационные технологии становились все более массовыми и общедоступными (от алфавита до средств электронной коммуникации), охватывая человечество в глобальном масштабе, что, в свою очередь, привело к уничтожению локальных обществ и их культур. Наука и технология становятся мощным интегративным фактором, способствующим разрыву границ между замкнутыми культурными системами и к радикальной трансформации существовавших между ними коммуникативных пространств, поскольку технологии выступили в роли того инструмента, который позволил конструировать смыслы не только людям, но и вещам. Если язык материальных объектов - это язык практики и восприятия, то технологии дают вещам возможность высказаться, превращая развитие современной культуры в глобальный, «бесконечно открытый процесс моделирования» [15, p. 418], который не может полностью контролироваться усилиями человеческого субъекта.
На сегодняшний день многие исследователи говорят о необходимости переопределения понятия общества в связи с происходящими в мире процессами глобализации и интеграции, которые способствуют разрушению привычного изоморфизма между социумом и государством и утрате пространственно-временной фиксированности, а значит и прежней стабильности социальных процессов[14]. На данный момент пока сложно констатировать существование единого глобального общества, поскольку многие глобальные процессы носят открытый, плохо предсказуемый и незавершенный характер, но можно выделить различные «отдельные уровни глобальной взаимозависимости» [10, с. 27], которые во многом конституированы нечеловеческой активностью, демонстрирующей текучесть и пластичность социальных и культурных феноменов.
Подвижность социетальных границ связана, прежде всего, с развитием новой глобальной инфраструктуры[15]. Появление машин и технологий, способствующих разрыву связей между индивидом и конкретным национальным обществом, приводит к радикальному изменению пространственно-временных параметров социетального «региона» и возникновению принципиально новых форм практики[16], которые уже не связаны непосредственно с намерениями и действиями людей, а зависят от взаимодействий множества человеческих и нечеловеческих акторов.
В рамках конкретного общества может реализовываться множество рассредоточенных во времени и пространстве процессов, физически и символически пересекающих границы национальных государств и представляющих собой гетерогенные потоки информации, людей и предметов с разной степенью проникновения, которые непрерывно комбинируются и рекомбинируются между собой, тем самым, дестабилизируя порядок организации локальных регионов. Возрастающая скорость циркуляции гетерогенных потоков и, как следствие, сжатие пространственно-временных параметров[17] порождают нелинейные, хаотические, и, по большей части, непреднамеренные социальные последствия, которые все чаще приобретают непредсказуемый масштаб[18].
В свете происходящих изменений человеческие возможности становятся все более ограниченными, попадая в серьезную зависимость от активности материальных агентов. Как замечает американский теоретик архитектуры и дизайна У. Митчелл, «мне нет необходимости напрямую управлять всеми функциями машин и устройств, которыми я пользуюсь; я полагаюсь на посредничество электронного интеллекта, заключенного в моем сотовом телефоне, автомобиле, домашних электроприборах или операционной системе моего ноутбука, а также на программное обеспечение[19]. Чаще всего я не знаю, встроен ли этот интеллект непосредственно в устройство, обеспечивается ли он удаленными серверами или является комбинацией того и другого» [6, с. 50]. Этот весьма наглядный пример показывает, что большая часть возможностей современного человека (от элементарного физического перемещения из одного пункта в другой до участия в online-играх) может быть реализована только в результате взаимодействия с огромным количеством нечеловеческих агентов, рассредоточенных в пространстве. Наш интеллект больше не может претендовать на уникальность, выступая всего лишь одним из узлов[20] глобальной коммуникативной системы, представляющей собой «гибрид» человека, природы и технологии.
Понятие «гибрида» было предложено Латуром для анализа ситуаций пересечения элементов природного, технологического и социального порядков, для которых характерно коллективное распределение деятельности и идентичности, т.е. таких ситуаций, когда практически невозможно атрибутировать одно конкретное действие тому или иному отдельному агенту – человеческому или нечеловеческому. При этом Латур не настаивает на существовании гибридов как некоторых чистых сущностей, а делает акцент, прежде всего, на динамичных процессах гибридизации и очищения. Если результатом первой совокупности практик выступает распределение деятельности и идентичности между humans и nonhumans, то вторая «посредством “очищения” создает две совершенно различные онтологические зоны» [2, с. 71], в одной из которых локализуется общество человеческих индивидов с его культурными ценностями, в другой – природа, материальные объекты и технологии. Таким образом, очищение – это выявление чистых форм из гибридов[21], в частности, чистых социо-культурных интеракций, находящихся вне сетей сложных взаимодействий с nonhumans.
Латур предлагает новую онтологическую интерпретацию взаимосвязи между двумя совокупностями практик, согласно которой «точка разделения и точка соединения становятся исходной точкой. Объяснения уже не идут от чистых форм к явлениям, но двигаются от центра к крайним точкам» [2, с. 148], т.е. ни субъектов, ни объектов, ни humans, ни nonhumans не существует до их взаимодействия друг с другом, в котором и происходит их взаимоопределение. Приоритет отношений над субстанциями исключает возможность доминирующего воздействия какой-то одной сущности на все остальные, например, человеческого субъекта на материальные артефакты. Человеческий субъект в подобной схеме не наделен какими-либо особыми функциями и превращается в не более чем еще один из компонентов гетерогенной сети интеракций. Следовательно, главный вывод из данной концепции состоит в том, что современные общества не являются исключительно человеческими, это всегда гибриды, семиотическая составляющая которых напрямую зависит от перформативной активности материальных агентов.
Другим, не менее значимым концептом, применяемым в STS для анализа взаимодействий природы, культуры и технологии, стало понятие киборга, являющееся концептуальной модификацией латуровского гибрида и получившее широкое распространение после издания в 1985-м году «Манифеста киборгов» Д. Харавэй. На сегодняшний день в междисциплинарном поле «исследований науки» существуют две, во многом схожие по своим концептуальным ресурсам, программы изучения взаимодействий биологического и технологического. Одна из них делает акцент на киборгизации человека, т.е. оставляет приоритет за организмом (биологической составляющей), другая говорит об антропоморфизации робота, т.е. о расширении возможностей механизма (технологической составляющей) за счет биологических параметров и имитаций [7, с. 138]. Соответственно, первая задействует упомянутое выше понятие киборга[22] (от англ. cybernetic organism – кибернетический организм) как биологического организма, оснащенного различными механическими и технологическими компонентами, в то время, как вторая использует термин «андроид»[23] (от греч. andr – человек, мужчина и eidos – подобный, схожий) в значении «человекоподобный робот» [там же, с. 138].
Программа киборгизации связана, прежде всего, с развитием западноевропейской философской мысли, основанной на картезианском дуализме ментального и физического и идущей по пути «механизации» и технологической интервенции живого на фоне достижений научно-технического прогресса. В свою очередь, программа антропоморфизации наиболее характерна для восточной, в частности, японской культуры. В полной мере она реализуется в рамках японской робототехники, наделяющей роботов человеческими характеристиками, которые не сводятся только к симуляции внешних эффектов человеческого поведения, например, речи, характерных реакций и движений, но также предполагают наличие у них структур сознания[24] [там же, с. 41].
На наш взгляд, программы киборгизации и антропоморфизации в исследованиях технонауки с разных сторон подходят к одной и той же серьезной проблеме, требующей глубокого философского осмысления, а именно, к проблеме самопонимания современного человека, «застающего себя в мире, чей облик стремительно меняется под воздействием высокоразвитых и направляющих друг друга науки и технологии» [8, с. 49]. Обе программы, по сути, приходят в решении данной проблемы к единому выводу о том, что проникновение научно-технологических факторов во все сферы человеческой жизни не только радикально трансформирует общество и культуру, но приводит к появлению принципиально новых форм жизни (будь то киборг, представляющий собой технологическое расширение нашей органической целостности, или андроид, являющийся «живым» техническим аналогом человека), которые образуют иной уровень экзистенциального бытия, требующий не только концептуализации вне привычных нам бинарных оппозиций, но и новой философской рефлексии.
В отличие от гибридов Латура[25] киборги и андроиды как формы жизни существовали не всегда, фактически они появились в результате развития современной технонауки[26]. С точки зрения Харавэй, «киборги, гибриды, мозаики, химеры» [11, с. 362] – это основной продукт «культуры высоких технологий» [там же, с. 362]. В мире киборгов границы между человеческим и животным, «животно-человеческим» [там же, с. 327] и машиной, физическим и нефизическим теряют свою актуальность, поскольку киборг изначально множественен и неоднороден, его нельзя представить как простое смешение чистых сущностей[27]. Прежние иерархии в виде рас, классов, гендера, на протяжении веков определявшие мировое устройство, уступают место сложным сетям, делающим возможным «всеобщий перевод» как «эффективную коммуникацию» [там же, с. 344]. Таким образом, киборг – это не только эмпирически фиксируемое сочетание биологических и технологических компонентов, но и определенный порядок представления, в котором вопрос «человек или машина?» не имеет смысла, поскольку биологическое (к примеру, наш мозг) уже неотделимо от технологического (например, от программного обеспечения, представляющего собой компьютерный интеллект и выполняющего функции нашей памяти).
Важную роль в формировании подобного порядка представлений играет трансформация человеческих чувств в результате технологической интервенции и появление их новых гибридных форм. Социальную обусловленность человеческих чувственных практик отмечал еще Г. Зиммель, но развитие науки и технологии отодвигает на второй план вопросы о социо-культурной детерминации восприятия, ставя перед исследователем куда более серьезные проблемы, касающиеся, например, бессилия наших чувств по отношению к рискам, порождаемым технонаукой (радиоактивное излучение невозможно потрогать, увидеть, понюхать, попробовать на вкус или услышать)[28], или воплощения чувственности в материальных объектах (появление «невидящего» зрения, реализуемого машинами для самих себя, «автоматизация восприятия» и т.п.)[29].
Со времен зиммелевского исследования чувств, в котором немецкий социолог особую роль отводил зрению, распространение визуального восприятия достигло колоссальных масштабов (переход «от печатного станка к электронным формам репрезентации, от фотокамеры, требующей непосредственного присутствия, к циркуляции цифровых изображений по всему земному шару и за его пределами» [10, с. 123], оказывая непосредственное влияние на трансформацию других чувств, в особенности, слуха (появление грампластинок, магнитных пленок, компакт-дисков, портативных аудио/видео плееров и т.п.). Если к концу XIX века зрение было почти полностью отделено от других чувств и занимало доминирующую позицию по отношению ко всем остальным, способствуя появлению описанных М. Фуко дисциплинарных институций, то в XX веке благодаря развитию новых технологий возникают и новые способы визуального восприятия, которое теперь осуществляется сложными гибридами.
Одним из таких гибридов, по мнению Д. Урри, является «фотограф», представляющий собой сочетание человека и камеры и формирующий особый способ видения, связанный с определенной эстетикой производства «заслуживающих внимания» визуальных образов[30]. Камера не только становится неотъемлемой частью субъектности, но и демонстрирует способность наделять значением все, что запечатлевает[31]. Мир, увиденный через камеру, предстает с одной стороны, как нечто субъективное, произведенное конкретным избирательным взглядом, с другой стороны, как объективное положение вещей, зафиксированное с помощью фотоснимка или видеоряда. При этом, важно подчеркнуть, что избирательный взгляд не является нашей человеческой привилегией, он формируется и направляется с помощью камеры, создающей векторы и траектории наших визуальных ощущений и превращающей мир в обозримую совокупность образов[32].
Камеры и фотоаппараты радикально трансформируют практики современных путешественников, многие из которых уже не могут получать удовольствие от простого зрительного восприятия пейзажей или экспонатов, для удовлетворения своих эстетических потребностей им необходимо взаимодействие с камерой, перформативным образом превращающей пейзаж или экспонат в особое зрелище, достойное тиражирования и коллекционирования, т.е. в достопримечательность.
Другими, не менее важными, для современной культуры гибридными формами являются взаимодействия человека с компьютером и телевизионным экраном, которые, по сравнению с камерой, еще больше материализуют и автоматизируют зрительное чувство, позволяя транслировать огромное количество визуальных образов практически на любые расстояния и связывать между собой самые отдаленные точки земного шара. Благодаря телевидению и компьютерным технологиям множество виртуальных пространств пересекаются в одной точке, вследствие чего по ним можно перемещаться, практически не задействовав при этом телесную составляющую[33]. Практика подобных перемещений соединяет первоначально несвязанные между собой визуальные потоки в единую цепь событий, невольным участником которой в связи с массовым распространением компьютеров и телевизионных устройств может стать каждый[34].
Легкость управления процессами комбинирования виртуальных пространств, лежащая в основе телевизионной и компьютерной экспансии, порождает такую форму зрительного восприятия как мимолетный, рассеянный взгляд[35], чаще следующий за определенным «звуковым ландшафтом», нежели за тем или иным визуальным рядом [10, с. 133-134]. Фоновый режим на сегодняшний день все чаще становится основным режимом работы телевизионных экранов, которые конституируют множество разнообразных видов деятельности, сопряженных не столько с просмотром, сколько с прослушиванием телепрограмм, в связи с чем, можно констатировать начало реабилитации устной традиции в западных обществах. Этому во много способствует и проникновение различных звуковых технологий (радиоприемников, медиаплееров, громкоговорителей, сотовых телефонов и т.п.) во все сферы жизни общества. Звуковой ландшафт современного города является крайне насыщенным, совмещая множество несовместимых звуковых потоков, образующих неустранимый фон нашей повседневной деятельности.
В отличие от зрения слух нельзя полностью изолировать от воздействующих на него объектов, поэтому звуковые контакты не являются привилегией человеческого контроля[36]. Тишина в современном обществе становится искусственно изобретенной средой, попасть в которую практически невозможно[37]. В связи с этим, культовым предметом современного звукового ландщафта становятся наушники, подключенные к переносным аудио/видео плеерам или сотовым телефонам и представляющие собой своеобразный фильтр, через который звуки окружающего мира воспринимаются как некие побочные эффекты, едва уловимые в приватном звуковом пространстве. По сравнению с визуальными, звуковые устройства гораздо более мобильны, поскольку встраиваются непосредственно в человеческое тело[38] и перемещаются вместе с ним, конституируя более функциональные гибриды.
Уже на примере трансформаций зрительного и слухового восприятия видно, что они производят радикальную делокализацию наших отношений друг с другом, с вещами и с окружающей средой, предоставляя нам возможность удаленного и асинхронного взаимодействия. Наша нервная система, по сути, выходит за пределы нашего тела, расширяясь за счет «медных проводов, оптоволоконных кабелей и беспроводных каналов, соединяющих мозг с электронной памятью, узлами обработки информации, сенсорами и приводами, расположенными по всему миру и даже в космосе» [6, с. 44]. В результате трансформации восприятия изменяется и наша способность к дифференциации поступающих сигналов: с помощью различных устройств, являющихся техническим продолжением наших органов чувств мы можем наблюдать микроскопические объекты, видеть световое излучение даже при его низкой интенсивности, различать звуки за пределами слышимого диапазона, или, наоборот, жестко отфильтровывать то, что не является важным и интересным.
Стремительная миниатюризация технологий и превращение многих из них незаметные имплантаты позволяет нашим чувствам функционировать беспрерывно или по требованию, с одной стороны, все больше расширяя возможности нашего восприятия, с другой, приводя к своеобразной атрофии органов чувств самих по себе, поскольку способность к дифференциации воспринимаемого материала все больше попадает в прямую зависимость от различных технических устройств. Речь идет уже не о нашей собственной чувствительности, а о чувствительности искусственных «сенсоров с сетевым подключением» [6, с. 45]. Таким образом, современный человек уже не является самодостаточным даже на уровне собственной биологической и физиологической организации, он «рассредоточенный в пространстве киборг» [6, с. 56], состоящий из множества различных уровней и сложных взаимосвязей между ними. Следовательно, взаимодействия не только между людьми, но между культурами как семиотическими системами во многом обеспечиваются «конститутивными маневрами материальных агентов» [16, p. 581], являющихся неотъемлемой составляющей человеческих практик.
Следуя за основными идеями концептуальных разработок Латура и Харавэй, Митчелл предлагает дуалистическую метафору рамок и сетей для анализа мира «электрокочевых киборгов»[39] и гибридов. Согласно данной метафоре, каждый из нас «состоит из биологического ядра, окруженного системой искусственных рамок и сетей. <…> Рамки определяют пределы помещений и пространств, тогда как сети организуют пространство связей и потоков» [6, с. 14]. По мнению Митчелла, сегодня происходит инверсия соотношения между рамками и сетями[40], сопровождающаяся колоссальным ростом мобильности людей и вещей и распределением событий по множеству пунктов и моментов все более непредсказуемым образом. В то время, как рамки приобретают все большую проницаемость, сетевые взаимодействия становятся главной характеристикой современной цивилизации, инициируя фундаментальный сдвиг человеческой субъективности, которая представляет собой множество взаимосвязей, пересекающихся и накладывающихся друг на друга. Человек больше не может позиционировать себя в качестве неизменной и обособленной личности, поскольку он соединен с множеством других людей и объектов, его физические и ментальные системы выходят далеко за пределы телесной оболочки, а его пространственно-временные координаты становятся все более неопределенными, растворяясь в глобальной сверхвзаимосвязанности[41].
Разворачиваясь в непредсказуемых масштабах, сетевые взаимодействия детерриториализируют и денационализируют культурные и информационные детерминанты, мобильность которых стремительно возрастает, пересекая локальные контексты действия. Исходя из перспективы множественности акторов и сетей, можно заключить, что локальные культуры все быстрее приобретает сетевой характер, превращаясь в множество динамичных взаимосвязей, которые распространяются в глобальном масштабе за счет образования пересечений (узлов), аккумулирующих в себе различные «ресурсы», как материальные, так и символические. Процессы гомогенизации, угрожающие специфике местных культур, в таком случае, оказываются связанными в первую очередь с тем, что отдельные культурные формы образуют крупные децентрализованные, крайне разветвленные сети, охватывающие практически весь мир и способные аккумулировать другие, менее масштабные сетевые структуры. Такие глобальные сети опираются на множество узлов, количество которых постоянно увеличивается, в результате чего такой сети очень трудно противостоять. Ярким примером глобальной, децентрализованной сети может служить так называемая «компьютерная культура», опирающаяся на огромное количество взаимосвязанных узлов (стационарных компьютеров, ноутбуков, планшетов, сотовых телефонов, Интернет-серверов, провайдерские компании, производителей программного обеспечения и компьютерных игр и т.д.) и подчинившая себе множество других сетей (национальные системы связи, образования и т.д.). Отсутствие центра и жесткой иерархии между узлами (производители компьютерных процессоров поддерживают стабильность данной сети в той же мере, что корректная работа антивирусной программы) делает компьютерную культуру достаточно неуязвимой, поскольку разрушение отдельных узлов не приведет к прекращению функционирования всей сети.
Циркуляция, охватывающая огромные масштабы, в сетях становится важнее замкнутости и автономности, поэтому современные общества и культуры, тесно связанные сетями взаимозависимостей, уже нельзя эффективно разделить с помощью расстояний, стен, границ и оболочек. Соответственно, особое значение в сетевой культуре приобретают точки доступа к циркулирующим потокам[42]. Таким образом, одной из главных сетевых дифференциаций становится наличие/отсутствие доступа[43] в силу того, что неравномерность «подключения» может усиливать одни культурные формы, и подрывать другие.
Сетевые культуры, основанные на непрерывной циркуляции людей, материальных артефактов, образов, информации и т.д. порождают у современного человека не только новые возможности, потребности и желания, но и новые риски. К последним можно отнести повсеместное распространение новых неизлечимых болезней, в особенности СПИДа; стремительный рост числа экологических угроз, пересекающих природные и государственные границы; возрастание степени риска потери национального суверенитета вследствие выхода из-под контроля гетерогенных потоков, циркулирующих через территории национальных государств; набирающие силу тенденции гомогенизации (вплоть до полной нейтрализации различий) локальных культур и т.д. Мы являемся свидетелями становления новой неопределенной и амбивалентной культуры риска, культуры непредсказуемых последствий, которая формируются в результате ослабления и ограничения возможностей отдельных индивидов и обществ в целом под натиском «многочисленных “внечеловеческих” глобальных потоков и множественных сетей» [10, с. 59]. При этом, на наш взгляд, крайне важно подчеркнуть, что неоднородные потоки, циркуляция которых осуществляется с разной скоростью, могут быть как фактором, обеспечивающим определенную степень стабилизации сетевых отношений, так и фактором, разрушающим сетевые структуры. Примером разрушения относительно стабильной сети является крах коммунистических режимов в Восточной Европе, который произошел во многом по причине того, что во второй половине XX в., начиная с 60-70-х гг., число коммуникационных (как и число самих средств и форм коммуникации) и туристических контактов с западными странами стремительно росло. Вследствие этого, потоки «западных объектов» (товаров, атрибутов западного стиля, произведений искусства) стали оказывать непосредственное влияние на формирование как индивидуальной, так и коллективной культурной идентичности [10, с. 64-67][44].
Становление сетевых культур ставит перед человечеством множество вопросов, ответы на которые только предстоит найти современным ученым, философам и теоретикам культуры. Каковы будут новые ценностные ориентиры сетевых коллективов людей и non-humans, которые, по всей видимости, будут способны действовать на огромных расстояниях, конституируя неожиданные и непредсказуемые динамичные взаимосвязи? Концептуализация новых мобильных культур и их внезапных бифуркаций требует новой исследовательской оптики вне характерных для философии культуры противоборствующих стратегий сциентизма/антисциентизма и вне привычных классификационных категорий. Порожденные наукой и технологией «блуждающие гибриды» [10, с. 297] создают новые уровни организации жизни и новые формы общности, в которых нам только предстоит увидеть окружающий мир, а также найти и осознать самих себя.
[1] Во второй половине XX века появляется множество новых дискурсов и философских программ, в которых понятие субъекта оказывается под вопросом. В качестве наиболее значимых из них можно выделить поструктуралистскую идею «смерти автора», постмодернистскую критику различных унифицирующих метанарративов (см. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998), критика дуалистического понимания проблемы «сознание–тело» с позиций социобиологии (см. Wilson E. Sociobiology. Cambridge (MA): Belknap, 1980), возрастание интереса к материальным объектам в социо-гуманитарных науках (см., например, Miller D. Material cultures. L.: UCL Press., 1998) и появление новых моделей организации взаимодействий человеческих и нечеловеческих агентов, в частности, акторно-сетевой теории Б. Латура (см. [2], а также разработка теорий сложности и хаоса в социо-гуманитарных науках (см. Casti J. Complexification: explaining a paradoxical world through the science of surprise. L.: Abacus, 1994). [2] Научная рациональность в рамках данных подходов характеризовалась как исторически и культурно детерминированная, подверженная изменениям, проблемно-ориентированная и т.п. [3] Данное направление на разных стадиях своего развития было представлено такими выдающимися исследователями как Б. Барнс, Д. Блур, Г. Колинз, Т. Пинч, С. Вулгар, Б. Латур, Э. Пикеринг, С. Фулер и др. [4] Об этом свидетельствует появление, например, таких дисциплин как социобиология, биополитика. Подробнее см. Карпинская Р.С., Лисеев И. К., Огурцов А. П. Философия природы: коэволюционная стратегия. М.: Интерпракс, 1995. [5] Следует отметить, что до поворота к материальному философия технологии не была ориентирована на науковедческую проблематику вследствие того, что техника трактовалась как практическое приложение теоретической науки. В традиционных концепциях технология, как правило, представлялась в качестве орудий и инструментов, машин и механизмов, используемых человеком с определенной целью и зависящих от его деятельности, но не наоборот. Свойства и возможности современных технологий демонстрируют несостоятельность подобных точек зрения и требуют принципиально новой концептуализации технологии, которую на сегодняшний день пытаются разрабатывать такие философы науки как Д. Айди, А. Финберг, Г. Дрейфус и др. [6] Как констатирует американский биолог и философ науки Д. Харавэй, современные наука и технология «взрываются друг в друге» [12, p. 34]. Об этом явно свидетельствует стремительное развитие во второй половине XX в. информационных и биологических наук и технологий, которые разрушают привычные концептуальные и физические границы между обществом, наукой и технологией, делая человеческие тела объектом и результатом масштабной технологической интервенции. [7] Эта характеристика современного общества отсылает к концепции «общества риска» немецкого социолога У. Бека, согласно которой возрастают риски умножения объемов производственных отходов и роста степени загрязнения окружающей среды, угрожающие существованию человечества Cм. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. [8] Для «исследований науки и технологии» характерна трактовка «вещей» как диалоговых объектов, «обладающих историей, отзывчивостью, культурой, темпераментом - <…> всеми качествами, в которых им традиционно отказывали гуманисты» [14, p. 3]. [9] В основе данных онтологических построений лежит модификация принципа симметрии, разработанного Д. Блуром для социологии знания. См. Блур Д. Сильная программа в социологии знания // Философско-литературный журнал «Логос», 2002. № 5/6, с. 162-185. [10] На сегодняшний день в STS разработано достаточно много разнообразных концепций нечеловеческих агентов, но поскольку все они имеют ряд общих черт и базируются на теории гибридов Б. Латура, то можно говорить о единой концептуализации nonhymans для STS. [11] «В человеческом обществе никогда не было культуры вообще, а существовала некая система таких локальных культур, которые были отдалены друг от друга даже пространственно, и взаимосвязь между ними была лишь относительной» [4, с. 3]. [12] В европейской и американской социологической традиции «“общество” и его характерные формы социальной дифференциации, в особенности разделение на классы, крепко переплетены с “национальным государством”» [10, с. 21]. [13] Реконструкцию представлений об обществе, характерных для каждого из этих направлений см. [10, с. 17-18]. [14] Как отмечает американский социолог М. Манн, «сегодня мы живем в глобальном обществе. Оно не унитарно и не представляет собой идеологическое общество или государство, но является уникальной силовой сетью. Взрывные волны проносятся по ней, сокрушая империи, перемещая огромные массы людей, материалов и сообщений, угрожая, в конечном счете, экосистеме и атмосфере планеты» [10, с. 26-27]. [15] Примерами такой инфраструктуры являются «оптоволоконные кабели, реактивные самолеты, аудиовизуальные передачи, цифровое телевидение, компьютерные сети (включая Интернет), спутники, кредитные карты, факсы, электронные торговые терминалы, переносные телефоны, электронные биржи, высокоскоростные поезда и виртуальная реальность» [10, с. 53-54]. [16] Например, «сравнительно дешевые заморские поездки; возможность приобретать потребительские товары и выбирать образ жизни по всему миру (допустим, мексиканскую еду, индийские кувшины, африканские украшения, южноамериканский кофе); доступ к общению жителей разных стран через Интернет; возможность формировать “новые социальные группы”, часто противостоящие или выдвигающие альтернативы отдельным сторонам глобализации; свобода участия в глобальных культурных инициативах, таких как Кубок мира, или знакомство с этнической музыкой» [10, с. 58]. [17] К числу сложных сетевых структур, направляющих свои ресурсы, в частности, оборудование и технологии, на цели, способствующие сжатию пространства-времени можно отнести ООН, Всемирный банк, Microsoft, CNN, Greenpeace, News International, Олимпийское движении, Английский язык, Международную ассоциацию воздушного транспорта, McDonalds, Coca-Cola и т.п. [10, с. 57]. Все выше перечисленные «глобальные предприятия представляют собой эффективные сети людей, навыков, технологий, брендов, которые работают с минимальным количеством сбоев. [18] К примеру, на сегодняшний день мы можем констатировать «серьезный рост ядерной, химической и военной технологий, а равно новых отходов и рисков для здоровья, о которых нельзя уже просто утверждать, что они порождены внутри обществ как конкретных регионов и являются их проблемой» [10, с. 54]. [19] «Нелюди часто могут заменять потенциально ненадежных человеческих особей – обучение последних правильному поведению может требовать очень больших усилий, избежать которых позволяет замена людей внечеловеческими образованиями» [10, с. 117]. [20] Машинный разум с каждым годом демонстрирует все возрастающую способность к автономному функционированию, о чем свидетельствует, например, сетевое общение, в котором мы не всегда можем определить, кто является автором полученного нами ответа – машина или человек (в первую очередь, это касается писем техподдержки, которые мы получаем по электронной почте, при регистрации на сайтах и т.п.), или компьютерные игры, в которых программа может выступать в качестве более серьезного противника, нежели человек. Как замечает Митчелл, «так, незаметно для нас, машины прошли тест Тьюринга. <…> По мере того как узлы с искусственным интеллектом распространяются повсеместно, сеть электронных устройств уплотняется, а цифровые обратные связи множатся, город становится огромным разумом, а биологический мозг – элементом более крупных когнитивных систем» [6, с. 51]. [21] По мнению Латура, субъект-объектная дихотомия – результат процедур очищения, которые преобладали над процессами гибридизации в новоевропейской философии, способствуя появлению дуалистических онтологий с четким разделением природного и культурного порядков. [22] Термин «киборг» был введен М.Е. Клайнсом и Н.С. Клином в 1960 г. в рамках концепции возможности жизни человека за пределами Земли в связи с развитием космических исследований. [23] Первое упоминание данного термина относят еще к XIII веку (Альберт Кельнский), значительную роль в широком распространении понятия «андроид» приписывают произведению «Будущая Ева» французского писателя Филиппа Огюста Матиаса Вилье де Лиль-Адама, в котором была описана искусственная женщина [7, с. 138]. [24] Антропоморфизации nonhumans в японском культуре во многом способствует и отсутствие в японском языке четкого разделения природы на живую и неживую. «Само слово “shizen”, при помощи которого передается понятие “природа”, соответствует лишь одному из значений этого понятия в культуре Запада. “Shizen” соответствует, скорее, изначальному понятию греческого “phusis” – тому, что делает существо тем, кем оно является и позволяет развиваться соответственно “собственной природе”. Но “shizen” никоим образом не может обозначать единство явлений, независимых от человека. В сознании японцев просто нет объективного представления о природе как об особом участке мира, из которого выделен человек[24]» [1, с. 48], поэтому роботы-андроиды выступают в качестве одной из форм жизни, сосуществующей вместе с человеком. [25] Согласно Латуру, человеческие общества были гибридными образованиями на протяжении всего своего развития, но люди не всегда правильно описывали то, что практиковали. [26] «Машины конца XX века сделали глубоко двусмысленным различие между естественным и искусственным, умом и телом, саморазвивающимся и выстраиваемым извне, как и многие другие разграничения, раннее применявшиеся к организмам и машинам» [11, с. 327]. [27] «История происхождения в западном гуманистическом смысле основывается на мифе об изначальных единстве, полноте, блаженстве и ужасе, изображаемых фаллической матерью, от которой все люди должны оторваться – задача индивидуального развития и истории. <…> Киборг пропускает стадию изначального единства, отождествления с природой в западном смысле» [11, с. 325]. [28] См., например, Adam B. Radiated Identities: In Pursuit of the Temporal Complexity of Conceptual Cultural Practices // Theory, Culture and Society Conference. Berlin, 1995. [29] См., например, Thrift N. Spatial formations. London: Sage, 1996. [30] «Трудно найти почтовые открытки или туристические фотографии “пейзажей” отбросов, болезней, бедности, сточных вод и запустения» [10, с. 129]. [31] См., например, Барт Р. Camera lucida. М.: Ad Marginem, 1997. [32] Хорошим примером в данном случае может служить «кодакизация» Египта или, другими словами, превращение страны в некоторый набор точек обзора и соответствующих им достопримечательностей, которые с помощью камеры должен запечатлеть каждый турист. Подробнее см. Gregory D. Scripting Egypt: Orientalism and the Cultures of Travel / Duncan J., Gregory D. Writes of Passage. L.: Routledge, 1999. [33] Перемещение по различным виртуальным реалиям в данном случае может осуществляться с помощью нажатия кнопки на клавиатуре или пульте дистанционного управления, т.е. путем одного минимального движения. [34] Сегодня с компьютерами и телевизорами можно взаимодействовать не только в частных жилых помещениях, но и в различных публичных пространствах – торговых центрах, клубах, барах, кафе, уличных витринах и т.п., даже будучи в этом незаинтересованным. [35] О различии мимолетного и пристального взгляда см. Urry J. Consuming Places. L.:Routledge, 1995. [36] По мнению Урри, «мир пережил настоящую революцию в звуке, отчасти сопоставимую с визуальной» [10, с. 150], что привело к появлению принципиально новых форм звукового восприятия и возрастанию потребностей в «слуховых развлечениях». [37] Даже в читальных залах библиотек, требующих соблюдения тишины, все чаще звучит фоновая музыка или работают интерактивные дисплеи, не говоря уже о том, что в других публичных и частных, открытых и закрытых пространствах искусственно созданные шумы (двигатели автомобилей, звуковые оповещения, теле и радио приемники и т.п.) не только уничтожают тишину, но и заглушают естественные звуки природы (раскаты грома, стук дождя, порывы ветра, рокот водопада и т.п.) [38] «Все больше музыки помещается во все более крошечные коробочки. Раньше человек мог унести две-три мелодии; сегодня люди передвигаются с тысячами треков» [6, с. 87]. [39] Категории «человечество» и «человек» уже неуместны для тех, «кто составляет тексты на беспроводных ноутбуках, пишет на бегу, беспрестанно смещает и множит географические и электронные точки зрения, таскает с собой цифровые камеры, углубляется в мировую паутину в поисках источников, идет по следу в сетях цитат, перекрестных ссылок и гипертекстовых связей, рассылает поисковых роботов, копается в метаданных и отслеживает потоки электронной почты и мгновенных сообщений» [6, с. 85]. [40] «То, что в древности символом города являлась окружность крепостных стен, демонстрирует, что ограничивающие, отделяющие и иногда защищающие рамки когда-то были решающим механизмом политической географии. <…> Однако, к середине XX века самым запоминающимся символом Лондона стала схема его метрополитена, а Лос-Анджелеса – карта его автострад. Именно использование этих сетей, а не пребывание внутри стен, делало человека жителем Лондона или Лос-Анджелеса» [6, с. 18]. [41] «По мере искусственного расширения тела за пределы оболочки из плоти размываются признаки пола, расы и даже биологического вида» [6, с. 84]. [42] Как замечает Митчелл, «если вы работник умственного труда, то личная библиотека, собранная в вашем кабинете, может оказаться менее полезной, нежели доступ к мобильной сети и приобретенные права интеллектуальной собственности на содержащуюся в сети информацию. <…> Если вы не можете позволить себе приобрести или так или иначе добыть такие права, если вы занесены в черный список, если вы потеряли свои карточки и мобильное оборудование, забыли пароли, утратили ярлык RFID, да и просто если у вас сели батарейки, вы <…> оказываетесь посреди недоступного изобилия» [6, с. 81]. [43] Последователь Латура, Д. Урри называет такие неравенства «туннелями» (которые даже не зафиксированы в юрисдикциях отдельных обществ), поскольку то, с чем мы сталкиваемся в данном случае представляет собой «сворачивание времени и пространства <…> телекоммуникационными и транспортными структурами, где каналы, минуя одни области, соединяют другие плотными в информационном и транспортном отношении “туннелями”» [10, с. 57]. [44] Структура этих обществ была, по сути, подорвана изнутри, поскольку даже изоляция с помощью максимально охраняемых границ оказалась бессильна перед наплывом неконтролируемого потока знаков, образов, вещей, пересекающих данные границы и встраивающихся в местный культурный контекст самыми непредсказуемыми способами.Литература
- Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- Латур Б. Нового времени не было. СПб.: Издательство Европейского ун-та в С.-Петербурге, 2006.
- Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего. М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005.
- Миронов В.В. Наука и «кризис культуры» (или затянувшийся карнавал). Ст.1. Вестник Московского университета. Серия 7, Философия, 1996. №4. С. 3-13.
- Миронов В.В. Наука и «кризис культуры» (или затянувшийся карнавал). Ст.2. Вестник Московского университета. Серия 7, Философия, 1996. №5. С. 3-12.
- Митчелл У. Я плюс плюс: Человек, город, сети. М.: Strelka Press, 2012.
- Середкина Е.В. Анализ программ киборгизации и антропоморфизации в контексте философии «хай-тек». Вестник Пермского государственного технического университета: культура, история, философия, право, 2010. №3. С. 137-146.
- Столярова О.Е. Постнеклассический облик науки: исследования технонауки (обзор). Философия в XX веке: сб. обзоров. М., ИНИОН РАН, 2002. Т. I-II. С. 41-81.
- Урри Д. Мобильности. М.: «Праксис», 2012.
- Урри Д. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012.
- Харавэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х гг. Гендерная теория и искусство. Антология. М.: РОССПЭН, 2005.
- Haraway D. Modest witness@Second_millenium. FemaleMan OnkoMause: Feminism and technoscience. N.Y., London:Routledge, 1997.
- Latour B. Ein ding ist ein thing: A philosophical platform for a left European party. Concepts and transformation. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin, 1998. Vol.3, (1/2). P. 97-112.
- Latour B. Pandora’s hope: essays of the reality of science studies. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Pickering A. Concepts and the mangle of practice: constructing quaternions. The South Atlant. quart. Durham. 1995. Vol 94, (2). P. 417-465.
- Pickering A. The mangle of practice: Time, agency and science. Chicago: The University of Chicago Press, 1995.
- Rouse J. Engaging science: How to understand its practices philosophically. Ithaca: Cornell University Press, 1996.
References
- Deskola P. Po tu storonu prirody i kul'tury [Beyond nature and culture]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012. [in Russian]
- Latour B. Novogo vremeni ne bylo. Esse po simmetrichnoi antropologii [We have never been modern]. SPb.: Izdatel'stvo Evropejskogo un-ta v S.-Peterburge, 2006. [in Russian]
- McLuhan M. Galaktika Gutenberga: Stanovlenie cheloveka pechatajushhego [The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man]. M.: Akademicheskij Proekt: Fond «Mir», 2005. [in Russian]
- Mironov V.V. Nauka i «krizis kul'tury» (ili zatjanuvshijsja karnaval) [Science and the crisis of culture (protracted carnival)]. St.1. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 7, Filosofija, 1996. №4. P. 3-13. [in Russian]
- Mironov V.V. Nauka i «krizis kul'tury» (ili zatjanuvshijsja karnaval) [Science and the crisis of culture (protracted carnival)]. St.2. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 7, Filosofija, 1996. №5. P. 3-12. [in Russian]
- Mitchell W. Ja pljus pljus: Chelovek, gorod, seti [Me++: The Cyborg Self and the Networked City]. M.: Strelka Press, 2012. [in Russian]
- Seredkina E.V. Analiz programm kiborgizacii i antropomorfizacii v kontekste filosofii «haj-tek» [The analysis of programs of cyborgization and anthropomorphization in the context of the philosophy of "high-tech"]. Vestnik Permskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta: kul'tura, istorija, filosofija, pravo, 2010. №3. P. 137-146. [in Russian]
- Stoljarova O.E. Postneklassicheskij oblik nauki: issledovanija tehnonauki (obzor) [Post-non-classical character of science: studies of technoscience (review) ]. Filosofija v XX veke: sb. obzorov. M., INION RAN, 2002. T. I-II. P. 41-81. [in Russian]
- Urry J. Mobil'nosti [Mobilities]. M.: «Praksis», 2012. [in Russian]
- Urry J. Sociologija za predelami obshhestv: vidy mobil'nosti dlja XXI stoletija [Sociology beyond societies. Mobilities for the twenty-first century]. M.: Izd. Dom Vysshej shkoly jekonomiki, 2012. [in Russian]
- Haraway D. Manifest kiborgov: nauka, tehnologija i socialisticheskij feminizm 1980-h gg [The cyborg’s manifesto: science, technology and socialist feminism in the 1980-ies]. Gendernaja teorija i iskusstvo. Antologija. M.: ROSSPJeN, 2005. [in Russian]
- Haraway D. Modest witness@Second_millenium. FemaleMan OnkoMause: Feminism and technoscience. N.Y, London:Routledge, 1997.
- Latour B. Ein ding ist ein thing: A philosophical platform for a left European party. Concepts and transformation. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin, 1998. Vol.3, (1/2). P. 97-112.
- Latour B. Pandora’s hope: essays of the reality of science studies. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Pickering A. Concepts and the mangle of practice: constructing quaternions. The South Atlant. quart. Durham. 1995. Vol 94, (2). P. 417-465.
- Pickering A. The mangle of practice: Time, agency and science. Chicago: The University of Chicago Press, 1995.
- Rouse J. Engaging science: How to understand its practices philosophically. Ithaca: Cornell University Press, 1996.